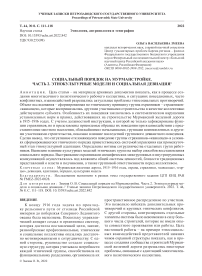Социальный порядок на Мурманстройке. Часть 2. Этнокультурные модели и социальная девиация
Автор: Змеева Ольга Васильевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Этнография, этнология и антропология
Статья в выпуске: 8 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - на материале архивных документов показать, как в процессе создания многотысячного полиэтнического рабочего коллектива, в ситуациях повседневных, часто конфликтных, взаимодействий разрешались актуальные проблемы этносоциальных противоречий. Объект исследования - сформированная по этническому принципу группа охранников - стражников-«кавказцев», которые воспринимались другими участниками строительства в качестве коллективно действующего субъекта. Особенность их поведения заключалась в систематическом нарушении установленных норм и правил, действовавших на строительстве Мурманской железной дороги в 1915-1916 годах. С учетом должностной инструкции, в которой не только зафиксированы функции стражников, но и представлены приемлемые образцы их поведения при взаимодействии с представителями местного населения, «ближайшими» начальниками, группами военнопленных и другими участниками строительства, показано влияние последствий группового девиантного поведения. Сделан вывод, что ситуативное отклоняющееся поведение группы стражников-«кавказцев» в условиях сформировавшегося этнического порядка приветствовалось системой управления как промежуточный этап этнокультурной адаптации. Определены мотивы сотрудничества отдельных групп работников. Выявлено влияние культурных моделей этнических групп на выбор способов восстановления социального порядка. Выстраивание охранниками специфических межгрупповых и внутригрупповых коммуникаций осуществлялось под влиянием общей системы ценностей, близости традиционных представлений о власти и подчинении, а также групповой ответственности перед коллективом.
Мурманская железная дорога, 1915-1916 годы, охрана, стражники, кавказцы, горцы, девиация, адаптация, порядок, культурная модель
Короткий адрес: https://sciup.org/147238903
IDR: 147238903
Текст научной статьи Социальный порядок на Мурманстройке. Часть 2. Этнокультурные модели и социальная девиация
К концу 1916 года задача по прокладке рельсового пути от столицы Российской империи до побережья Северного Ледовитого океана была выполнена. Поскольку управленческий аппарат создал и организовал систему, которая достигла поставленной цели, значит, разнообразные профессиональные, этнические и социальные коллективы оказались достаточно мотивированными к сотрудничеству. С одной стороны, руководство создало социальную структуру, которая учитывала потребности каждой этнической группы, способствовала их функциональному разделению, организовала их
пространственное распределение по участкам. Это позволило избежать дополнительных противоречий и крупных этнических конфликтов. С другой стороны, контролировать отдельные элементы системы было невозможно в силу большого числа строителей, которые не имели опыта совместного проживания или работы. Цель настоящей работы – на примере этносоциальных взаимодействий представителей нижних чинов охранной структуры показать, как в процессе создания сообщества строителей Мурманской железной дороги разрешались некоторые проблемы, связанные с адаптацией многочисленного полиэтнического коллектива.
СТРАЖНИКИ: СТАТУС, ФУНКЦИИ И ОЖИДАНИЯ
Охрана Мурманской железной дороги включала этнически разнообразные команды стражников, среди которых были русские, лезгины, черкесы, чеченцы, ингуши, киргизы. Для них был разработан нормативный документ, в котором фиксировались должностные обязанности. Это «Инструкция стражникам, находящимся на постройке Мурманской железной дороги» (далее – Инструкция)2. Именно представители нижних чинов непосредственно исполняли функции охраны людей, осуществляли надзор за военнопленными и рабочими. Они следили «за порядком», «правильностью исполнения военнопленными распоряжений технической администрации дорог», обязаны были «пресекать побеги», а также «сопровождать пленных на работы»3. Также в их обязанности входило наблюдение за объектами, принадлежащими Управлению работ по постройке железной дороги: мостов, складов, касс и т. п.
Стражники, занимая в структуре полицейско-строевых отношений нижнюю ступень, подчинялись не только железнодорожному начальству, но и губернской полиции [10: 13–15]. Привлечь стражника к исполнению обязанностей могли местный жандармский унтер-офицер, заведующий командой, пристав участка, начальник жандармского отделения и управления.
Охрана разбивалась на группы, которые затем распределялись по участкам. Каждая команда имела иерархию. Назначался заведующий командой, затем выбирался старший стражник, который и был обязан наблюдать «за правильным несением службы», а также порядком в помещениях. Кроме старшего, определялся дежурный по команде, функции которого заключались в соблюдении режима и сохранении «приличного» поведения команды в казарме.
Службу стражники несли караульным порядком. При этом сам охранник оказывался в жестких нормативных условиях. Так, в отношении этой должности весьма условно определялись понятия «рабочего» / «свободного времени» / «отдыха». Обязательства вести непрерывный надзор за работниками не всегда позволяли стражнику разграничивать рабочее и нерабочее время. Не стоящий в карауле представитель охраны все равно оставался на службе, продолжал исполнять должностные функции. Он следовал предписанию в случае необходимости «явиться на службу», и поэтому совершенно свободным мог считать себя, «только получив разрешение на отлучку из казармы»4.
Служба стражником на Мурманской железной дороге в условиях Первой мировой войны по- зволяла считать себя участником военных действий, поскольку она приравнивалась к работе «в войсках» и подразумевала присягу государю и родине о защите их интересов5.
Привлечение к дорожному строительству многочисленных групп военнопленных оправдывало несение военной службы теми, кто обязан их охранять, а отсутствие на месте должного числа рабочей силы позволило руководству аргументировать необходимость найма в охрану крупных этнических групп, привлеченных с территорий, далеких от Мурманстройки [4: 190–195].
Социальные взаимодействия стражников с окружающими строго регламентировались. Так, среди условий обращения охранников с военнопленными особо выделялось требование гуманности. Сострадательное отношение обосновывалось особым статусом военнопленных. Они, как и стражники, находились на службе своему отечеству и даже в плену продолжали оставаться действующими, а не бывшими участниками войны. В функции охраны входил «ближайший надзор» за военнопленными на рабочем месте и в местах отдыха с обязательным контролем их деятельности. Охранники не должны были «позволять играть в карты, пить спиртные напитки и производить беспорядки»6. Даже в случае нежелания военнопленного работать стражнику не рекомендовалось как-либо воздействовать на него. Следовало лишь доложить о нарушении начальнику. За неодобряемое поведение, несоблюдение правил караульной службы и требований начальства представители охраны подвергались дисциплинарным наказаниям. В отдельных случаях предписывалось отдать стражника под суд: если его действия «повлекут за собою убытки казны», «выяснится злой умысел или преступная небрежность». Дисциплинарные взыскания для нижних чинов охранной стражи – это устные или письменные замечания, выговоры, арест не более пятнадцати суток, увольнение7. Наказания на стражников накладывали их непосредственные руководители. Главы участков дистанций сообщали о провинившихся начальнику отделения. Он принимал решение о дальнейшей судьбе сотрудника – наложить взыскание или ходатайствовать перед начальником Жандармского управления об увольнении виновного.
Стражник в любой ситуации должен был действовать в соответствии с предписаниями. Его действия регулировались уставными документами. Правила позволяли стражникам применить санкции в случае нарушения поведения «чужими»8. В Инструкции оговаривались также потенциальные способы взаимодействий представителей охраны и окружающих. Услов- ное разделение на тех, кому можно доверять (ближайший круг), и тех, с кем следует вести себя осторожно (так называемые «посторонние»), имело целью оградить стражника от влияния «злонамеренных» личностей. В реальности уровень доверия к людям, естественно, колебался в зависимости от субъективного понимания стражниками опасности и от разделения окружающих на «своих» и «чужих». В результате в ситуациях социального взаимодействия охранники получали возможность действовать так, как считали нужным и правильным, руководствуясь задачами наблюдения и контроля за поведением рабочих, местных жителей, беженцев и других людей, находившихся в местах строительства железной дороги [7]. Поскольку в организации работ на участках не удавалось избежать социальных противоречий, руководство предполагало, что формальное следование участников установленным нормам (или строгое соблюдение предписанных обязанностей) должно способствовать созданию системы действия, обеспечивающей поддержание устоявшихся образцов поведения в сообществе рабочих. Так социальная система могла успешно функционировать при условии действия механизмов социального контроля. Анализ социальных взаимодействий среди групп охраны и отдельных групп рабочих показал, что на строительстве Мурманской железной дороги использовались и неинституциональные формы социального контроля [5]. Несмотря на строгое регламентирование поведения стражников, необходимость быстро принять решение, например, в конфликтной ситуации позволяла им влиять на систему повседневных взаимодействий. Таким образом, представитель охраны выступал не только в роли наблюдателя-надзирателя, но и в качестве «карателя» или «палача». Статус «стражника» по отношению к подконтрольным группам (прежде всего военнопленным) позволял охране ситуативно использовать «исправительное» и «нормализующее» наказание. Это характерно для модели власти, которую М. Фуко назвал «дисциплинарной» [11: 14, 22, 200].
СТРАЖНИКИ-«КАВКАЗЦЫ»
КАК КОЛЛЕКТИВНЫЙ АКТОР
Мобилизация трудовых ресурсов, активизация миграционных процессов на огромной территории (от Петрозаводска до Мурмана) способствовали созданию армии рабочих. Многотысячный коллектив строителей, который вдобавок к производственным трудностям аккумулировал проблемы этнокультурной адаптации разных «народностей»9, непрерыв- но требовал регулирования отношений, включая контакты между акторами-субъектами и социальными объектами [8: 344]. Социальная организация на Мурманстройке включала систему акторов – этнических групп [6], функционально распределенных на участках строительства. Одной из групп, которая по существу не являлась этнически однородной10, были стражники.
Обширная структура охранного комплекса имела своеобразное этническое устройство. Документы Национального архива Республики Карелия (НАРК) и Государственного архива Мурманской области (ГАМО) содержат перечни сотрудников охраны, составленные по этническому принципу. Анализ именных списков показал, что при группировке нижних чинов варьировались критерии систематизации. Существуют материалы, в которых представители охраны не разделены по этническому признаку, основным показателем служит обозначение статуса – списки стражников11. В других случаях охранники распределяются на несколько больших квазиэтнических групп: «русские стражники», «стражники-черкесы», «стражники-кавказцы»12. Есть и реестры, которые объединяют представителей только одной этнической группы (стражников-чеченцев, стражников-лезгин)13.
Именно группу стражников-«кавказцев» (или «охрану из кавказских народностей»14) мы рассматривали в качестве коллективного актора, полагая, что они являлись «субсистемой более широкой социальной системы, взаимодействующей как отдельная единица с другими субсистемами» [8: 349]. Изучение группы «кавказцев» как коллектива обусловлено и оценкой их в качестве действующих субъектов другими участниками строительства. Действия отдельного стражника воспринимались окружающими как действия коллектива, а не индивидуальные поступки. В этом случае их можно анализировать как «сегменты» действий, в соответствии с терминологией Т. Парсонса. Действия организуются в систему, когда они «эмпирически не разрознены, но совершаются как бы плеядами» [8: 341]. Эти «сегменты» Т. Парсонс и называет системой, то есть организацией (или объединением) элементов действия в социальные системы, системы личности и культурные системы «мотивированного действия, организованные вокруг отношений акторов друг к другу» [8: 341– 342]. Проще говоря, речь идет о видах, способах и процессах социальных взаимодействий в различных ситуациях и внутри этнической группы, и при ее взаимодействии с другими этническими общностями.
Если понимать действия коллектива страж-ников-«кавказцев» как субсистему, то существенное значение приобретают ее «символические эталоны» («культурные системы»). На них основывается выбор ценностей, общих для членов коллектива. Общее видение и оценка ситуации определяют ответственность индивида перед коллективом, руководят его предпочтениями и формируют специфические межгрупповые и внутригрупповые коммуникации.
Отсутствие достаточного количества желающих поступить в охрану строящейся железнодорожной линии – результат несоответствия требований к нанимаемым их финансовым ожиданиям15. Неудачная попытка Управления завербовать местных жителей привела к тому, что мотивация стражников, которые формировали нижнюю ступень охранной структуры, по всей видимости, не имела прямых установок на получение прибыли. В ситуации острого недостатка в рабочей силе наемные охранники опирались на предшествующий опыт работы в такой или похожей должности, а также на должностные требования о формировании команд охраны военным ведомством. Повторим, что служба в системе охраны Мурманской железной дороги приравнивалась к военной, следовательно, давала отсрочку от мобилизации.
Дополнительным обстоятельством найма стражников стала практика формирования этнических коллективов. Один из стражников, ранее работавших в должности охранника, писал министру путей сообщения: «Я Ингуш и могу представить на эту службу сколько Вам потребуется своих единородцев ингушей»16. Подобные коллективы формировались из чеченцев, лезгин, черкесов и др. Окружающие воспринимали их в качестве объединенного сообщества «кавказских народностей». О них говорили как о коллективе кавказцев, кавказских горцев, кавказских инородцев. Описания ситуаций, в которых одной из действующих сторон была группа стражников-«кавказцев», демонстрируют образ инородца: человека, не знающего языка социального окружения, неграмотного, ленивого, нечистоплотного и т. д. (об истории поэтапного формирования этносоциального стереотипа «кавказец-горец» см., напр.: [12]). Употребление названий конкретных этнических групп указывает на действия этно-профессионального коллектива (стражников-чеченцев, стражников-ингушей) вместо индивидуальных действий. Статусная и этническая отчужденность охранников способствовала обособлению групп стражников-«кавказцев» от других социальных формирований. Она создавала систему общения, в которой статус (военнопленные, землекопы, плотники и др.) отдельных этнических групп имел значение в выборе способа коммуникации со стороны групп охраны [5: 66–70].
Каждая профессиональная группа постепенно структурировалась. Формирование статусной иерархии осуществлялось и внутри групп, и между ними. То же произошло с большим коллективом Мурманстройки, включающим множество профессиональных групп. Несмотря на формальную разработанность социальной структуры, неизбежен был период традиционной борьбы за статусы, своего рода войны за старшинство (как официальное, предусмотренное должностью, так и неофициальное). Социальные взаимодействия, сопровождающиеся разного рода конфликтами и соперничеством, стали способом межгрупповой адаптации разных этнокультурных моделей. Сравнение взаимоотношений этнических групп в «новой среде» (на Мурманстройке) с процессами социальной адаптации современных мигрантов позволяет говорить о второй стадии «общей продолжительности адаптации» как этапе столкновения с «чужими» социокультурными условиями, на котором происходят конфликты с принимающей стороной [13].
СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕВИАЦИИ
И НАРУШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОРЯДКА
Архивные документы содержат многочисленные описания нарушений социального порядка. Так или иначе, его ситуативно разрушали все участники строительства – и различные группы рабочих (независимо от квалификации), и те, кто с ними взаимодействовал. Документы свидетельствуют о действиях, основанных на естественных межэтнических противоречиях коллективов рабочих. Этнический фактор доминировал в системе повседневных взаимодействий. Поскольку некоторые участники строительства регулярно оказывались в состоянии потенциального конфликта, условием функционирования большого коллектива была актуализация механизмов социального контроля [9: 272–283]. Судя по поведению охранников, не оправдались ожидания руководства, рассчитанные на поддержание ими социального порядка между враждующими группами по принципу справедливости. Более того, стражники-«кавказцы» часто выступали одной из сторон социального или этнического конфликта.
Для начальников, которые призваны были контролировать коллективы охраны, очевидным был факт систематического нарушения отдельными этническими группами общепринятых и установленных на строительстве правил. Предписанные Инструкцией способы поведения в тех или иных ситуациях не исполнялись. Стражники не проявляли качеств, которым должны были соответствовать при взаимодействии с другими группами рабочих, «горцами» [7: 65].
Социальное благополучие коллектива строителей, регулярно нарушаемое действиями отдельных групп, одной из которых были сотрудники охраны, должно было восстанавливаться силами самих стражников как представителей команды. В результате рабочий процесс, внешне контролируемый, изнутри преодолевал ежедневные противоречия, вызванные девиантным поведением тех, кто обязан был осуществлять контроль17. Поскольку речь идет только о зафиксированных в документах нарушениях систем действия, трудно сказать, каким в действительности был набор ситуаций контактов стражников-«кавказцев» и других групп рабочих. Переписка отражает проблемы, конфликты и прочие нарушения со стороны исполнителей тех или иных должностей. Допуская, что действующие в соответствии с уставными документами субъекты не попадали в поле зрения соответствующих отделов, можно делать заключения только о части коллектива охраны, представители которого совершали нарушения. Мы имеем в виду лишь повторяющиеся ситуации взаимодействия, в которых одна из сторон – стражники-«кавказцы». Налицо противоречие: действующая и мотивированная охрана обязана обеспечить порядок внутри системы этносоциальных взаимодействий, при этом коллектив стражников регулярно становится участником конфликта, а в отдельных случаях – его источником.
Представители охраны одновременно и нарушали, и создавали порядок. Даже если в данный момент стражник был не на посту, он рассматривался как человек при исполнении. В Инструкции подчеркивалось: «всегда должен», «обязан быть», «всегда следует»18. Складывались ситуации, в которых охранники, нарушая правила, исполняли должностные обязанности. При этом задачи по строительству дороги на всех участках в общем выполнялись. Цель управленческих структур была реализована «беспримерной в истории железнодорожного строительства скоростью постройки Мурманской железной дороги»19. Нарушения поведения со стороны стражников, таким образом, можно рассматривать как элемент «дозволенности» власти в процессе достижения рабочим коллективом единой цели – завершения строительства [9: 289–290]. Более того, в условиях функционального и пространственного разделения коллективов рабочих у этнических групп получалось взаимодействовать без знания языка, специфических особенностей и потребностей каждой отдельной группы.
Некоторые крупные этнические общности были специфически организованы как самостоятельные команды, и рабочие находились внутри своей группы (например, китайцы или «кавказцы»). Представители сообществ, из которых формировалась общая социальная структура, выполняли интегрирующие функции внутри своих коллективов. Однако эти группы не могли быть акторами без взаимодействия с другими участниками строительства, так они становились социальными объектами для вышестоящих структур. При этом официальная власть являлась главной силой, способной преодолеть межгрупповое противоборство. В результате члены коллектива действовали в соответствии с собственными представлениями о ситуативной справедливости. Например, «кавказцы», рассчитывая, что поступают на государственную службу стражниками, не предполагали, что из положенного им жалованья будут вычтены расходы на табак и прочие товары, приобретаемые ими в торговых точках, расположенных вдоль линии дороги. Здесь включался принцип «дозволенности» поведения, которое власти считали допустимым в известных обстоятельствах, даже если оно отклонялось от нормы. Охранникам иногда прощалась «халатность» в отношениях с военнопленными, бежавшими со стройки [2: 102]. А в ответ на наказания за нарушения порядка стражники образовывали своего рода группировки, члены которых совершали преступные действия20. Возможность ношения и использования оружия, субъективные представления о нормах поведения и возможной системе наказаний позволяли охране регулярно нарушать порядок. Несмотря на то что система воспринимала их действия как девиантные, не соответствующие уставным отношениям, а следовательно, требующие применения санкций и наказаний, внутри сообщества сами нарушители не считали такое поведение отклоняющимся. С их точки зрения, в подобных ситуациях работал принцип эквивалентного обмена. Стражники действовали на основании, с одной стороны, формальных правил, с другой стороны, практик реципрокации и представлений конкретной этнической группы о справедливом распределении. Поскольку их собственные средства изымались вышестоящими, то денежное вознаграждение за возможность побега военнопленного или отъем денег у бригады рабочих (нижестоящих) рассматривались как естественная компенсация.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стражник – непосредственный представитель власти на месте. Проконтролировать его в каждой конкретной ситуации было практически невозможно, поэтому социальный контроль во многих случаях не осуществлялся. Охранник имел возможность способствовать адаптации, интеграции групп, воспроизводству привычных культурных образцов. При этом стражники использовали групповое девиантное поведение как способ привлечения внимания и одновременно разрешения конфликтных ситуаций, с которыми не справлялась нормативная система.
Нарушение предписанного поведения со стороны стражников-«кавказцев» по отношению к группам, за действиями которых осуществлялся надзор, представляет один из этапов организации социальной системы, частично поддерживаемой отклонениями от норм. Используемые охраной насильственные и ненормативные способы воздействия (сила, обман, торговля и др.) позволяли руководству корректировать действия коллектива стражников внутри их системы для реализации общих системных потребностей. В результате нарушения группой охраны норм взаимодействия с подчиненными и начальниками создавалось пространство для адаптации других групп к социальной среде, друг другу и системе в целом. Например, «назначение» стражников врагами того или иного рабочего коллектива вызывало групповое противостояние, которое частично преодолевалось. В итоге отдельный случай взаимодействия и выбранная участниками строительства модель поведения могли повлиять на изменение порядка.
Сроки возведения объекта были ограничены, и нормативная контролирующая структура мирилась с нарушениями со стороны участников строительства. Управление, сосредоточенное на макропроблемах, было не в состоянии решать все микропроблемы, в частности, повседневных взаимодействий.
Выбранный принцип организации этнической структуры позволил сохранить разнообразие культурных моделей. Взаимодействие культур в социальной системе отразилось и на установленной социальной структуре: в нее были встроены элементы, основанные на множестве культурных привычек, традиций, знаний, ценностей и норм.
Список литературы Социальный порядок на Мурманстройке. Часть 2. Этнокультурные модели и социальная девиация
- Голубев А. А. Мурманская железная дорога. История строительства (1894-1917 гг.). СПб.: Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2011. 205 с.
- Дубровская Е. Ю. Пространство сооружения магистрали: строители Мурманской железной дороги и население прилегающих территорий в годы Первой мировой войны // Население Кольского полуострова между двумя мировыми войнами: взгляд историков и антропологов. М.: Наука, 2022. С. 76-133.
- Дубровская Е. Ю., Кораблев Н. А. Карелия в годы Первой мировой войны: 1914-1918. СПб.: Нестор-История, 2017. 432 с.
- Змеева О. В. От станционных поселков до промышленных городов: историко-этнографический профиль региона // Население Кольского полуострова между двумя мировыми войнами: взгляд историков и антропологов. М.: Наука, 2022. С. 177-239.
- Змеева О. В. Система взаимодействий в полиэтническом сообществе строителей Мурманской железной дороги // Труды Кольского научного центра РАН. Гуманитарные исследования. 2022. Т. 13, № 2-22. С. 62-75.
- Змеева О. В. Социальный порядок на Мурманстройке. Часть 1. Этнические группы - акторы социальной системы // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2021. Т. 43, № 8. С. 70-78. Б01: 10.15393/и^.ай.2021.695
- Змеева О. В. Стражники Мурманской железной дороги: регулирование отношений и формирование этносоциального порядка (1915-1916 гг.) // Труды Кольского научного центра РАН. Гуманитарные исследования. 2019. Т. 10, № 2-16. С. 53-67.
- Парсонс Т. О структуре социального действия: Пер. с англ. М.: Академический Проект, 2018. 435 с.
- Парсонс Т. Социальная система: Пер. с англ. М.: Академический проект, 2018. 530 с.
- Федосов А. В. Функции полиции Олонецкой губернии в годы Первой мировой войны // 8ШШа Humanitatis Вогеа^. 2016. № 2. С. 4-26 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sthb.petrsu.ru/journal/ article.php?id=3141&ysclid=l5gn7kprew396997728 (дата обращения 12.03.2022).
- Фуко М . Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999. 478 с.
- Хадикова А. Х. Об историческом контексте формирования стереотипа «кавказцы»: этнокультурный аспект проблемы // Вестник Владикавказского научного центра. 2019. Т. 19, № 4. С. 2-8.
- Южанин М. А. О социокультурной адаптации в иноэтнической среде: концептуальные подходы к анализу // Социологические исследования. 2007. № 5 (277). С. 70-77.