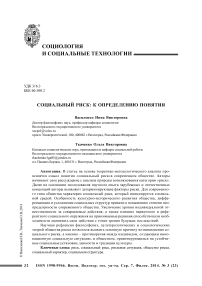Социальный риск: к определению понятия
Автор: Василенко Инна Викторовна, Ткаченко Ольга Викторовна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Социология и социальные технологии
Статья в выпуске: 3 (23), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе теоретико-методологического анализа проясняется смысл понятия «социальный риск»в современном обществе. Авторы начинают свое рассуждение с анализа природы возникновения категории «риск». Далее на основании исследования научного опыта зарубежных и отечественных концепций авторы выявляют детерминирующие факторы риска. Для современного типа общества характерен социальный риск, который инициируется социальной средой. Особенность культурно-исторического развития общества, дифференциация и усложнение социальных структур привели к повышению степени неопределенности современного общества. Увеличение уровня индивидуальной ответственности за совершаемые действия, а также влияние первичного и референтного социального окружения на принимаемые решения способствовали необходимости оценивать свои действия с точки зрения будущих последствий. Научная рефлексия философских, культурологических и социологических теорий общества риска позволила выявить основную причину возникновения социального риска, а именно - противоречия между индивидом, создающим инновационную социальную ситуацию, и обществом, ориентирующимся на устойчивые социальные установки, ценности и традиции культуры.
Риск, социальный риск, рисковая ситуация, общество риска, социальный характер, социальная структура
Короткий адрес: https://sciup.org/14974648
IDR: 14974648 | УДК: 316.3
Текст научной статьи Социальный риск: к определению понятия
Проблема риска восходит глубоко в историю человечества, ее методологическое обоснование началось в XVIII столетии в рамках теорий политэкономии [1, с. 4]. Затем в XIX – начале XX в. в связи с накоплением знаний о вероятностном характере ряда общественных, технических и природных процессов риск попадает в поле зрения других наук, в частности прикладной математической статистики. Здесь возникает первый подход к пониманию природы риска – технический [14, с. 7]. С этой точки зрения он трактуется как объективный и познавательный факт – потенциальная опасность или уже причиненный вред, который может быть измерен независимо от социальных процессов и культурной среды. Степень риска вычисляется здесь путем расчета вероятностей благоприятных и неблагоприятных событий, а также подсчета и сравнения выгод и издержек в случае их наступления [9, с. 121].
К началу 60-х гг. XX в. становится все более ясным несоответствие одномерной логики количественного (статистического) исчисления риска многомерности критериев социального поведения в целом и реального человеческого выбора в частности. Поэтому риск из побочного действия научно-технической деятельности превращается в социальное явление, на которое оказывают влияние не только объективные обстоятельства, но и вся совокупность социальных, политических, экономических, этических и других аспектов [10, с. 90]. Следующая точка зрения на риск формируется в рамках второго – социокультурного направления [4, с. 109], из которого берет свое начало социологическая теория риска. Социологическое обоснование риска начинает оформляться в социально-философских теориях прагматизма У. Джеймса и Дж. Дьюи и экзистенциализма К. Ясперса, Ж.П. Сартра, К. Поппера.
В концепции прагматизма У. Джеймса человек видится как практически деятельное сознательное существо, которое приспосабливается к жизни в мире, «является борцом за цели». Основанием для решения этих задач служит религиозно окрашенный идеализм, а не собственно разум или наука. Человек стремиться к цели через средства, позволительные в рамках того религиозного идеализма, в который он верит. Риск здесь состоит в том, чтобы прийти к намеченной цели теми средствами, которые ему позволены обществом, религией. «Мы имеем право верить на свой собственный риск в любую гипотезу, которая достаточно жива, чтобы повлиять на нашу волю» [4, с. 109]. Итак, с точки зрения У. Джеймса, направленный характер действий индивида определяется через следование принятым в обществе ценностям и нормам или догмам определенной религии. То есть любая человеческая активность встроена в определенные социальные условия и испытывает на себе их влияние.
Известный американский философ Дж. Дьюи продолжает разработку основополагающих идей прагматизма, в качестве основной идеи своего учения вводит понятие «проблематическая ситуация», из совокупности которых складывается повседневная жизнь человека. Переживая эти моменты своей жизни, человек накапливает жизненный опыт, который помогает справляться с ситуацией неопределенности в будущем, встраивая «проблематические ситуации» в сложившиеся модели поведения. В раннем прагматизме проблема риска существовала подсознательно, имплицитно. Не употребляя само понятие «риск», прагматики дают общую схему действия человека в рисковой ситуации.
Понятие риска и опасности появляется в экзистенциализме, в частности в учениях К. Ясперса. Сущность жизненного положения человека заключаются не в ситуациях, которые он в состоянии изменить, а в неизменных основных или пограничных ситуациях, зачастую сокрытых завесой повседневности, среди которых – смерть, страдания, борьба за существование, представленность человека воле случая. С точки зрения ученого, жизненные трудности и опасности человек преодолевает посредством достижений науки и техники, поддержки со стороны семьи, общества, религии. Однако все эти меры являются лишь частными достижениями в общих рамках тотальной ненадежности и не устраняют постоянную угрозу человеческому существованию. Итак, риск и рисковая ситуация постоянно сопровождают человека в его повседневных практиках, но «пограничные ситуации», то есть ситуации риска, позволяют человеку постичь свою истинную природу – экзистенцию, только преодолевая риск, человек может развиваться и совершенствоваться, так как не пассивно подчиняется принятым в обществе моделям поведения, а ищет новые, неопределенные пути [4, с. 30].
Проблема риска присутствует и в экзистенциальных построениях Ж.П. Сартра. У человека, рассуждает автор, нет «природы», которая могла бы предопределить способы его поведения, и человек вынужден творить ее сам. Поэтому социальная реальность является совершенно уникальной. В своей повседневной жизни индивид должен опираться только на себя, не уповая ни на какие ценности, социальные предписания, авторитеты. В связи с этим оборотной стороной свободы выступает для него чувство тревоги. Ведь в противостоянии «нечеловеческому миру» индивид действует на свой страх риск: делай то, что считаешь нужным, а там будь что будет [там же, с. 68]. То есть Ж.П. Сартр, так же как и другие философы, говорит о естественном состоянии риска в повседневной жизни индивида. Описывая рисковую ситуацию через категорию «тревога», автор подчеркивает, что, только преодолев это чувство, человек может идти дальше, то есть творить свою экзистенцию в частности и «социальный организм» в целом.
Важной для философского осмысления риска является концепция К. Поппера, в которой рисковость поведения соотносится со степенью «открытости» общества. Чем более открыта социальная система, тем больше разнообразия она порождает, тем больше людей вовлечены в создание риска. В «рискующем обществе» его члены вынуждены принимать личностные решения и нести за них ответственность, но «вынужденность» эта «органическая», естественная. Поэтому каждый, двигаясь в неизвестность и неопределенность, подвергается опасности и риску, даже не подозревая об этом [11, c. 216].
Таким образом, философы обозначили основные причины появления риска и рисковой ситуации. Ученые исходят от особой природы человека, требующей постоянного развития и совершенствования. Не всегда, с точки зрения прагматиков, навязанные обществом, культурой или религией нормы и моде- ли поведения удовлетворяют ищущую, познающую и стремящуюся вперед природу человека. С точки зрения прагматизма и экзистенциализма такая ситуация порождает необходимость сталкиваться с неопределенными, сложными моментами, которые обозначаются как «проблематическая ситуация», «пограничная ситуация», «тревога», то есть риск. С одной стороны, преодолевая их, человек приобретает свою истинную экзистенцию, самосовершенствуется, с другой – необходимость вовлечения иных социальный субъектов, усложнение структуры социальной ситуации приводит к возникновению дополнительных источников риска.
Философские концепции риска стали основой формирования социологических теорий, которые можно подразделить на следующие направления [14, с. 8]: культурно-символическое развитое Мэри Дуглас, концепция риска Н. Лумана, теории общества риска У. Бека и Э. Гидденса, концепция «общества всеобщего риска» О.Н. Яницкого.
Концепция риска М. Дуглас заключается в том, что человек действует на основе тех ценностей, норм, установок, которые транслируются определенным типом культуры. Оценка опасности и риска также происходит в соответствии с транслируемыми культурой нормами жизни. Выбор модели и направления поведения индивидов осуществляется, в частности, с таким расчетом, чтобы поддерживать приемлемый для них образ жизни. Приверженность определенному образу жизни дает людям знания только об определенных опасностях.
Восприятие риска соответствует культурным предпочтениям, которые предполагают наличие укоренившихся ценностей и поддерживают различные модели общественных отношений. Различные общественные отношения рождают представления о том, что такое риск. Каждая форма общественной жизни производит определенное профилирование риска. Поскольку невозможно охватить все потенциальные опасности, должна быть установлена некоторая шкала приоритетов. Никто не обладает полной информацией о рисках, нет гарантии, что мы стремимся избежать именно те риски, которые действительно несут в себе наибольшую опасность. «Тем не менее мы должны действовать, не зная, что случится с нами на пути, который мы выбираем» [16]. Каждое общество производит свой взгляд, который влияет на выбор опасностей, заслуживающих внимание. Представители какой-либо культуры будут идти или избегать определенных типов рисков, а также выбирать уровень его социальной приемлемости. Приемлемость риска всегда зависит от альтернатив, ценностей, убеждений, которые конкурируют в обществе [там же].
М. Дуглас и ее коллеги выдвигают три модели отношений, порождающих три вида рисков: иерархическим отношениям соответствует социальный риск, эгалитаристским – экологический риск, индивидуалистским – экономический риск. Каждый вид риска укрепляет определенный образ жизни [там же].
М. Дуглас исходит из того, что иерархическая культура преобладает в традиционном типе общества. Данному типу отношений характерен преувеличенный страх людей перед природными, социальными явлениями и процессами. В традиционном типе общества риск выполняет роль социального регулятора посредством ритуала, а также идей «греха» и «табу» [8, с. 248]. Ритуал помогает человеку «взаимодействовать с будущими сценариями своей деятельности», то есть представляет собой некий алгоритм действий, следуя которому человек минимизирует вероятностный ущерб от того или иного типа действия. Ритуал оказывается первичной формой нормативно-ценностной артикуляции риска в традиционном обществе. Другая форма культурных регулятивов поведения людей в традиционном обществе – идеи «табу» и «греха», которые разграничивали дозволенное и недозволенное, безопасное и опасное, которые защищали человека от общества и от самого себя. Для иерархической культуры свойственно избегание или распределение риска. В данной культуре преобладает стремление людей преувеличить масштаб и последствия рисков в результате отсутствия знаний и невозможности объяснения большинства природных и социальный явлений.
Для индустриального типа общества характерна эгалитаристская культура. В рамках этого типа общества делается акцент на негативных последствиях современных технологий, поскольку они символизируют соци- альные различия, разделение труда и благосостояние отдельных членов общества. Технологии особенно негативно сказываются на окружающей среде, то есть доминирующим риском в рамках данной культуры является экологический. На этом этапе появляется четкое представление о всевозрастающем влиянии человека и понимание результатов своей деятельности как основного источника возникновения риска.
В современном типе общества, в котором преобладает индивидуалистская культура, риск связан с личностными решениями и ответственностью [5, с. 42]. Экономическая система является ведущей в обществе и определяющей профиль риска. Для данной культуры характерен страх перед потерей своих ресурсов и конкурентоспособности, что приведет к невозможности «независимой игры на рынке», то есть своего активного состояния как члена общества. Здесь происходит понимание того, что человек сам несет ответственность за свои действия и вероятность возникновения риска зависит только от его собственных решений.
Таким образом, концепция риска М. Дуглас рассматривается через культурно-исторический аспект. Риск, по ее мнению, существует на протяжении всей человеческой истории, но в различных формах: в доиндуст-риальном или традиционном типе общества риск понимался как грех и служит регулятором и нравственным ограничителем для личности. На индустриальном этапе риск понимается как рациональный расчет возможных опасностей и мыслится как средство минимизации потенциальных угроз, исходящих не только от природы, но и от человека и его деятельности. Постиндустриальный тип общества связан с наступлением времени системных рисков. Риск здесь предстает как социокультурная основа развития общества. М. Дуглас, вслед за философами, делает акцент на социально-культурной среде как основе конструирования рисков. Это просматривается в описание профиля риска через специфику культуры того или иного типа общества: норм, ценностей, моделей поведения. Каждый тип культуры определяет, что считать риском, какие риски следует избегать и какие механизмы защиты применимы и дей- ственны для разного профиля риска. Н. Лу-ман, вслед за М. Дуглас, продолжает рассуждать о риске в социальных координатах.
Теория общества риска Н. Лумана основывается на представлении о том, что развитие общества связано с возрастающими процессами дифференциации, которые приводят к большей независимости элементов и повышают уязвимость социальных систем в целом. Сложность систем предполагает неограниченные возможности установления взаимосвязи между ними, что выражается у Н. Лумана через понятие «комплексности». Основная характеристика комплексности – наличие неограниченного множества выбора, неограниченного количества вариантов действия, что приводит автора к мысли о том, «что все могло бы быть совершенно иным» [17, p. 8]. Возрастающая дифференциация социальных систем приводит к росту комплексности, что увеличивает вероятностный характер социальной реальности. Это, в свою очередь, способствует увеличению рисков. В такой ситуации в обществе на первый план выходит не субъект, а его действие или выбор из альтернатив, не объект, по поводу которого совершается действие, а многообразие различий.
Проблема выбора, или, как называет ее Н. Луман, «редукция комплексности» (неограниченность выбора), возникает всегда, когда система сталкивается с проблемой взаимодействия с окружающей средой. Именно в коммуникации Н. Луман видит один из факторов возникновения риска. Социальная коммуникация в современном обществе создает необходимость соотнесения индивидами своего мнения с ожиданиями окружающих [ibid., p. 10]. Оценивая ситуацию как рисковую, человек часто опирается не на свое субъективное мнение, а на точку зрения участников коммуникации. По Н. Луману, перестает существовать различие между восприятием риска субъектом и риском, вменяемом другими в процессе социального взаимодействия.
Социальные коммуникации остаются тем средством, с помощью которого общество как система производит и воспроизводит себя, что «требует» преодоления ситуации неопределенности, вызванной необходимостью выбора, посредством поиска новых ресурсов. Такая необходимость способствует совершенствованию как человека, так и всего общества. С другой стороны, совершенствование, развитие социальной системы на разных уровнях увеличивает вероятность риска за счет увеличения степени редукции комплексности, количества участников ситуации, появления новых воздействующих факторов и т. д.
По мнению Н. Лумана, риски актуализируются тогда, когда субъект совершает действия на основе процесса принятия решений. О риске говорят лишь в тех случаях, когда не может быть принято решение без какого-либо ущерба. Принимаемые решения всегда связаны с рискогенными последствиями, по поводу которых принимаются последующие решения, также порождающие риски. В результате, по мнению Н. Лумана, возникает серия разветвленных решений, или «дерево решений», накапливающая риски. Стоит отметить, что автор делает акцент на накопительных свойствах современных рисков, образующих несколько уровней рисков, каждый из которых оказывает влияние на предыдущий. Согласно логике Н. Лумана, последний уровень рисков окажется на вершине «дерева-решений», то есть будет испытывать максимальное воздействие, максимальную степень риска.
-
Н. Луман предполагает подойти к определению категории риска через понятие порога бедствия. Результаты подсчета риска можно принимать не переходя порога, за которым риск может трактоваться как бедствие. Причем этот порог будет располагаться на разных уровнях у разных индивидов, а также в зависимости от характера вовлеченности в риск – субъект принятия решения или объект, вынужденный выполнять рисковые решения. Восприятие риска и его принятие является больше социальной проблемой, нежели психологической. Человек поступает в соответствии с ожиданиями, предъявляемыми к нему его референтной группой. В современном обществе на первый план выдвигается вопрос о том, кто решает, должен ли риск приниматься в расчет или нет. В результате объективные факторы оказывают существенное влияние, доминируя над субъективными, в процессах оценки степени и уровня риска индивидом.
Само понятие «риск» ученый описывает в категории «вторичная нормальность», имея в виду, что современное поведение является нарушением привычного социального порядка. Мы можем познать нормальные процессы нашего общества, изучая, как общество может осмыслить свои неудачи в форме риска. Риск выступает оборотной стороной нормальной формы. Только при обращении к оборотной стороне нормальной формы мы можем распознать ее как форму, то есть, только изучив специфику риска, мы можем объяснить специфику современных социальных процессов. В целом социологическую теорию риска Н. Лумана можно обозначить как поведенческий подход, так как он определяет риск через решения, его реализацию и последствия [15], отводя человеку доминирующую роль.
Итак, по мнению Н. Лумана, риск является естественным результатом модернизационных процессов современного общества как результат усложнения структуры современного общества. Риск имеет социальную природу происхождения, так как актуализируется там, где есть человек и необходимость выбора на основе принятия решений. Выбор человек осуществляет в процессе коммуникации, то есть соотнесения своего мнения с социальными группами разного уровня. На оценку ситуации, принятие решения оказывают влияние как субъективные, так и объективные факторы. Последняя группа факторов становится все более доминирующей, так как общество, референтная группа определяют, что считать риском, какой риск избегать. Под воздействием мнения социальных групп индивид принимает решение и делает выбор. Получается довольно сложная социальная цепочка определения, оценки и принятия риска, на конце которой находится человек.
Немецкий экономист У. Бек выдвинул общее понятие общества риска, согласно которому риск – это не исключительный случай и не «побочный продукт» общественной жизни. Риски постоянно производятся обществом, причем это производство легитимное, осуществляется во всех сферах общественной жизни: экономической, политической и социальной. «Создаваемую ими угрозу уже нельзя отнести только к месту их возникновения – предприятиям. По своей сути они уг- рожают жизни на этой планете, причем во всех ее проявлениях» [2, с. 20].
В работе У. Бека «Общество риска: на пути к другому модерну» научно-техническая, а также промышленная революции лежат в основе возникновения и распространения рисков. «…Без сомнения, – рассуждает ученый, – риски, связанные с развитием промышленности, так же стары, как и само это развитие» [там же, с. 24].
В развитых странах современного мира, по его мнению, общественное производство благ постоянно сопровождается общественным производством рисков, но, так же как и производство, имеет разную степень развитости и распространения среди передовых и отсталых государств. Распространение рисков тоже происходит по-разному, что вызывает социальную напряженность и конфликты. Одни группы людей оказываются в эпицентре рисковых ситуаций, другие преимущественно создают их. Неравномерное распределение рисков в социальной структуре рождает чувства страха, несправедливости и т. д. [там же, с. 35].
Он исходил из того, что идеал абсолютной безопасности человека оказывается принципиально недопустимым. «Мы еще не живем в обществе риска, но и уже не живем в обществе распределения благ. По мере осуществления этого перехода мы действительно приближаемся к переменам в общественном устройстве, которые выводят из существовавших до сих пор категорий образ мыслей или способ действия. Разумеется, риск не изобретение нового времени» [там же, с. 20]. Однако сегодня опасность проистекает не из тех природных и социальных сил, которые неподвластны человеку, но из новых и неожиданных источников. Неизбежный «остаточный риск» [3, с. 162] оказывается оборотной стороной беспрецедентных благоприятных возможностей (процветания, относительно высокого уровня социального обеспечения и общего комфорта), предлагаемых современным обществом значительному количеству его членов. Об обществе риска, по мнению У. Бека, можно говорить тогда, когда производство рисков начинает преобладать над производством благ, а риски перестают поддаваться контролю. Такая ситуация порождает два момента. Во-первых, чувство страха, которое является неотъемлемой частью рисковой ситуации, заставляет человека искать способы преодоления неопределенности, то есть возникает необходимость в совершенствовании. Во-вторых, в условиях неопределенности, опасностей основным благом становится безопасность и способы ее достижения.
Риски поздней модернизации невидимы и не воспринимаются простым человеком. Их можно охарактеризовать в категориях «реальные» и «нереальные». Нереальными они кажутся в результате неизвестных последствий в будущем. Особенность производства и распространения современных рисков предполагает глубокие изменения во всей социальной системе: возникают новые ценности, социальные стереотипы. Основным механизмом этих изменений является детрадицинализация и индивидуализация. Невозможность применения традиционных механизмов защиты (страхования) приводит к индивидуальной ответственности за последствия риска. Освобождение от традиционных социальных норм (семейных) предполагает структурирование индивидуальной жизни как сугубо личного проекта, самоорганизацию и самореализацию.
Общество риска – это общество неопределенности, в котором все актуальнее возникает проблема отсутствие адекватного ответа со стороны как человека, так и всего общества, порождая эффект рефлективности. Социум, по У. Беку, недостаточно рефлексивен – не осознает и не осмысливает происходящие изменения. Здесь преобладает рефлективность – непроизвольное и незаметное столкновение общества с результатами его развития, с рисками и опасностями, порождающимися в процессе модернизации. Только в радикализации модернизации и рефлексии У. Бек видит выход из социально-институционального кризиса. Для общества риска характерен ряд специфических черт:
– неравенство, то есть возможность и способность избегать опасных ситуаций, обходить и компенсировать неодинакова у слоев с разными доходами и разным уровнем образования;
– проблема ответственности: зачастую субъекты и организации не несут никакой ответственности за свои действия, которые мо- гут оказаться рисковыми для других [3, с. 165]. Эта ситуация ведет к возникновению следующей проблемы современного общества риска – проблемы доверия;
– испытание риском предполагает создание необходимого уровня уверенности и доверия, утраченного и нарушенного ранее;
– проблема глобализации, то есть объективно риски все же вызывают в пределах их досягаемости уравнительный эффект.
Здесь У. Бек поднимает вопрос о неравном распространении рисков. Стоит согласиться с автором в правомерности постановки вопроса о стратификационной системе рисков. Распространение рисков происходит не только горизонтально, в зависимости от территории, на которой проживает человек (уровень развития экономики страны, региона, города), но и вертикально, в зависимости от социального уровня (общество, социальный институт, социальная группа, индивид). Так, например, социальный институт располагает большими полномочиями в определении риска и его уровней, а также большим потенциалом ресурсов для его минимизации. Человек оказывается в максимально зависимом положении от модели поведения, принятой в обществе, от предоставленных социальным институтом ресурсов и от мнения первичной и референтной социальной группы.
Таким образом, У. Бек еще раз обозначает основные характерные черты общества риска. Во-первых, риск является не уникальным, а часто встречаемым явлением, он хорошо укрепился в структуре и динамике общества. Во-вторых, в этих условиях повышается роль человека в процессе предупреждения опасностей и риска. Риск стимулирует человека к саморазвитию и совершенствованию. В-третьих, общество риска повышает актуальность таких проблем, как неравенство, определяющее то, что экономическое благополучие человека является существенным механизмом минимизации риска; ответственность человека за свои действия, так как доверие к ближайшему окружению и экспертам, как основным агентам влияния не всегда приводят к положительному результату; глобализация, которая подтверждает проблему вездесущности риска и опасности. Идеи У. Бека дают возможности изучить особенность рас- пространения рисков в социальной структуре общества и обозначить основные законы их изменений, что усиливается в концепции общества риска Энтони Гидденса.
В своей работе «Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь» Э. Гидденс рассуждает о том, что концепция риска для нашего времени, не более актуальна, чем для прошлых эпох [7, с. 38]. В своей концепции ученый делает акцент скорее на позитивных чертах риска. Риск, по его мнению, это динамичная, мобилизующая сила в обществе, стремящемся к переменам, желающем самостоятельно определить свое будущее, а не оставлять его во власти религии, традиций или капризов природы [там же, с. 40]. Несмотря на то что развитие общества с начала эпохи Нового времени и до наших дней неизменно связано с идеей риска, сегодняшний риск приобретает новое, специфическое значение: он становится способом регулирования будущего, его нормализации и подчинения нашей воли, что перекликается с идеями М. Дуглас, которая в риске видела механизм социальной регуляции.
Чтобы лучше понять природу рисков в современном обществе Э. Гидденс выделяет два вида рисков: внешний и внутренний. Внешний риск – это риск, причина которого лежит вне нас самих: она связана с неизменными традициями культуры или законами социума. Другую разновидность он назвал рукотворным риском, то есть риском, связанным с нашим познанием окружающего мира. К категории рукотворного риска относятся ситуации, с которыми мы практически не сталкивались ранее в истории. Разницу между двумя разновидностями риска лучше всего объяснить следующим образом. Можно сказать, что в рамках всех традиционных культур, да и индустриального общества вплоть до недавнего времени, людей беспокоил риск, связанный с внешней средой: неурожаями, наводнениями, эпидемиями или голодом. Однако в какой-то момент – совсем недавно – нас стало беспокоить не столько то, что может сделать с нами природа, сколько то, что мы можем сделать с ней. Это поворотный момент от преобладания внешнего риска к господству рукотворного [там же, с. 45]. Рукотворный, или внутренний, риск, проникая и в социальную сферу современного общества, становится более дифференцированным, образует сплетение разнообразных рисков, которые влияют друг на друга, усиливая их рисковую сущность, становясь максимально «рискованным».
Автор подразделяет риск на реальный и потенциальный. Потенциальный риск отдален во времени и пространстве. То, что могло бы «не заладиться», может быть отброшено в сторону на том основании, что это слишком невероятно, чтобы быть принятым во внимание [6]. Отсрочка во времени и отдаленность в пространстве также являются факторами, уменьшающими беспокойство, которое в противном случае вызывает осознание риска как риска. Иначе говоря, связанные с таким риском опасности кажутся человеку слишком далекими от его собственных дел, чтобы серьезно задумываться об их возможности. Ярким примером может служить вредная привычка современного человека – табакокурение. Потенциальный риск для здоровья от этой привычки имеет отдаленную перспективу, что снижает остроту восприятия последствий. Реальный риск – это риск, последствия которого не заставят себя ждать.
Несмотря на то что, по мнению автора, риск встроен в социальную структуру общества, свою особую актуальность для индивида он приобретает в определенные моменты своей жизни. Следует согласиться с Э. Гидденсом, что по своей природе человек не будет просчитывать каждый свой шаг в повседневном взаимодействии. Только «роковые моменты» заставляют человека оценивать свои будущие действия на предмет потенциальных опасностей и угроз. Таким образом, его можно определить как добровольный риск, на который люди идут, как правило не задумываясь.
Роковые моменты часто касаются вопросов, в которых обычный человек не компетентен. В таких ситуациях существенное значение приобретает функционирование «абстрактных систем». В рамках «абстрактных систем» или социальных институтов особое значение приобретает деятельность экспертов и их влияние на принятие решение индивидом. С точки зрения Э. Гидденса, всякий социальный порядок зиждется на «абстрактных системах» и доверии к ним. Наиболее ярким примером рокового момента, значимого для индивида, является постановка диагноза, который демонстрирует проблему доверия экспертам (врачам) по поводу значимого для человека момента жизни.
Таким образом, Э. Гидденс в целом продолжает поддерживать взгляды зарубежных исследователей риска, признавая, прежде всего, естественную природу его происхождения и мобилизационный потенциал. Так же как и Н. Луман, автор подчеркивает возникновение риска в результат взаимодействия человека и социальной среды «абстрактных систем». Сложность и изменчивость социальной среды требует наличия посредника между «абстрактными системами» и индивидом, в качестве которого выступает эксперт. Его мнение позволяет индивиду ориентироваться в социальном пространстве, наполненном опасностями и риском. Однако эта помощь осознается человеком не всегда, и основная масса рисков носит потенциальный характер, то есть не осознается. В «роковые моменты», как обозначает их Э. Гидденс, риск предстает перед человеком в виде осознаваемой опасности, и риск становится реальным.
Рассмотренные идеи западных ученых заставляют обратить внимание на специфику определения рисков в российском обществе, которые отличаются от западного как структурой, так и динамическими процессами.
В советской и российской науке общая теория риска практически не разрабатывалась. Как самые заметные можно выделить исследования риска, предпринятые А. Альги-ным. Однако они имеют социально-философскую направленность и в основном акцентируются на изучении одной из граней риска – экономической. По А. Альгину, риск проявляется в деятельности, в ситуации неизбежного выбора между альтернативами, которые возможно количественно и качественно оценить. В целом риск трактуется в традиционном для экономической теории вероятностном ключе [1, с. 4]. В этой концепции не учитывается социальная составляющая риска, выражающаяся в наличие культурных, социальных и психологических факторах, воздействующих на индивида при осознании, оценки и принятии решения в рисковой ситуации.
В отечественной социологии проводятся эмпирические исследования технологических и экологических рисков на базе Института социологии РАН под руководством А. Мозговой [12, с. 9]. Теоретические исследования основываются на понимании риска как процесса принятия решения, осуществление которого может привести к чрезвычайной ситуации, кризису, катастрофе. На эмпирическом уровне они изучают отношение респондентов к различным опасностям и особенности поведения человека в экстремальных условиях, не придавая значения актуальности осознания риска в повседневной жизни.
Наиболее законченная концепция российского общества риска представлена в работах известного ученого О.Н. Яницкого, который обозначает специфические особенности общественного порядка России, влияющие на природу риска. Россию он характеризует как общество всеобщего риска, так как и культура, и социальная среда способствовала распространению риска в небывалых для Запада масштабах [14, с. 31].
О.Н. Яницкий отмечает, что особую природу риска следует искать в истории России, когда христианство как основной социальный регулятив давало человеку возможность «дистанцироваться» от произведенных им рисков (нечестивых деяний), пропагандируя ответственность человека за свои поступки перед Богом, но не перед средой, социальной и природной, в которой он жил. Тем самым христианство, в частности православие, морально легитимизировало тип личности, которой не надо было заботиться о материальных и социальных последствиях своих поступков.
Автор начинает свое рассуждение с того, что за последние десятилетия в России произошли существенные перемены. Огромная скорость этих процессов не дает возможность сформировать как у общества, так и у простых людей рефлексии – адекватных сценариев поведения, соответствующих существующей ситуации. Общество не успевает осваивать стремительно меняющуюся ситуацию, для чего необходима интенсификация процессов социокультурной рефлексии и рефлективности. О.Н. Яницкий предлагает несколько иное понимание данных терминов, нежели У. Бек. В нашем случае, пишет ученый, социокультурная рефлексия – это перманентное критическое осмысление меняющейся ситуации и публичный диалог по поводу современного состояния общества [14, с. 31]. Под рефлективностью он подразумевает трансформацию старых и возникновение новых социальных акторов и институтов в ответ на «вызовы» общества риска, что не происходит в современной России. Последствия, оставленные перестроечными процессами, привели к тому, что производство рисков становится прибыльным [там же]. Риски стали не только инструментом борьбы кланово-корпоративных структур, но и превратились в ценность и в предмет торговли между государством и частными агентами этого производства.
Риски в российском обществе имеют особую стратификационную систему. Высшие слои общества, имеющие деньги и власть, преимущественно создают риски (производители), нижний слой – это обычные люди, которые являются их потребителями. Одни общности и социальные группы извлекают пользу из производства рисков, другие же подвергаются их негативному воздействию. Таким образом, рискогенная культура современной России поделила общество на два лагеря – потребителей и производителей риска [14, с. 39].
Раздвоение социального порядка на «светлый» и «теневой» постепенно размывает различия между нормой и патологией. Социальный порядок основывается на поддержании производителями риска чувств страха, недоверия, усталости у потребителей риска, приводит к высокому уровню приемлемости риска. Повседневная жизнь становится все более ненадежной и непредсказуемой. Риски, существующие вокруг человека, непосредственно не воспринимаются органами чувств, в результате существуют не риски, а только знание о них [15, с. 5].
О.Н. Яницкий, вслед за Э. Гидденсом, говорит о значимости института экспертизы, которая помогает человеку ориентироваться в социальной среде. Однако если среди зарубежных ученых в качестве экспертов выступают специалисты узкой области, то в России это преимущественно СМИ и первичная социальная группа, в результате возрастает чув- ство недоверия как основного ответа обществу со стороны потребителей рисков.
Потребители рисков, или, как называет их автор, «жертвы риска», характеризуются долготерпением и риск-солидарностью [14, с. 39]. Долготерпение – это основа устойчивости прежнего российского общества, усугубляющая современную кризисную ситуацию и приводящая к чрезвычайно высокому уровню социально приемлемого риска [13]. Одним из структурных результатов функционирования общества риска является формирование риск-солидарностей [там же] . Так, еще недавно Н. Луман полагал, что солидарность необходима представителям низших классов, брошенных обществом на произвол судьбы. Сущностным качеством риск-соли-дарности является двузначность: то, что для производителей риска выступает благом, для потребителей является риском, бедствием [14, с. 41].
Таким образом, в России существует специфика возникновения и распространения рисков в обществе. Традиции и ценности культуры, а также стремительные трансформационные социальные процессы привели к разделению общества риска на два уровня. Первый – верхний, состоящий из производителей рисков (государство, социальные институты), определяющих, что считать риском, на кого он будет распространяться и т. д. Второй – нижний, состоящий из потребителей (совокупность индивидов), характеризующихся апатией, недоверием, ориентацией на мнение непрофессионала, высоким уровнем приемлемости риска, долготерпением и риск-солидарностью.
Суммируя сказанное выше, можно заключить, что российское общество постепенно трансформируется в «общество всеобщего риска». В самом деле, производство и распространение рисков приобретает экстерриториальный характер, охватывая в равной мере индустриальную систему, социальные институты, повседневную жизнь и биосферу. «Коль скоро социальная жизнь обременена нарастающей чередой больших и малых рисков, опасность, рискозависимость становятся нормами повседневной жизни» [14, с. 45]. Производство рисков угрожает вытеснить производство общественного богатства, будь то здоровье общества, его интеллектуальный потенциал, товары или услуги. Социальная жизнь состоит из больших и малых рисков, опасностей. Рискозависимость выступает нормой общественной жизни. Риски становятся настолько масштабными, неотложными и структурно новыми, что общество не имеет средств поддержания своего жизнеобеспечения в безопасном состоянии, постепенно теряет контроль над функционированием социума. Распад советской системы в ходе реформ привел к утере безопасности человека, что породило всеобщее недоверие и страх, а повседневная жизнь стала все более ненадежной и непредсказуемой [14, с. 45].
Итак, можно подвести следующие итоги. Являясь технической категорией по своему происхождению, риск приобретает социальный характер в результате усложнения социальной структуры и непредсказуемости социальных процессов. На риск и рисковую ситуацию воздействует огромное количество различных факторов, преимущественно социального характера: особенности культуры, ценности, традиции (М. Дуглас), особенности социальной структуры (О.Н. Яницкий), влияние социального окружения (Э. Гидденс), особенности социального взаимодействия (Н. Луман).
Существенным, а иногда и решающим фактором возникновения риска является социальная среда. Таким образом, с нашей точки зрения, вернее говорить о социальном риске, который возникает в двух случаях.
Первый случай: риски создает индивид, интерпретирующий и конструирующий социальную ситуацию в условиях отсутствия достаточных знаний для ее понимания, а с другой стороны, выполняющий традиционную модель поведения, мотивируемую устойчивыми социальными установками, сформированными в процессе социализации. Индивид создает социальные риски в силу отсутствия достаточных знаний для адекватной оценки современной социальной реальности. В этой ситуации снизить риски человеку помогает профессионал или эксперт в незнакомой области, обладающий необходимыми знаниями для нейтрализации риска. Взаимодействие индивида с профессионалом-экспертом будет иметь положительный результат в ситуации доверия со стороны социального агента эксперту, его знаниям и опыту.
Второй случай: риски создает общество, базирующееся на инерционных социальных структурах и бытующих ценностях и традициях культуры, которые складывались веками и формируют базовые модели поведения для социальных акторов в различных ситуациях.
Социальные риски проявляются в двух формах: актуальные (реальные) и потенциальные. Актуальными являются риски, осознанные социальными агентами, в качестве которых могут выступать индивид, группа, сообщество. Потенциальными называются риски, которые существуют вне сознания социальных агентов. Актуальные риски могут оцениваться социальными агентами по критериям опасности, угрозы, некого потенциального урона в пространстве и времени. Осознание риска происходит в особые «роковые моменты» – те моменты человеческой жизни, когда потенциальные риски переходят на уровень актуальных.
Имея представления о свойствах современного социального риска, мы приближаемся к его более глубокому пониманию и определению его понятия. Cоциальный риск – это осознание индивидом на базе своих знаний, информации и жизненного опыта вероятности возникновения какого-либо ущерба для своего потенциала в результате оценки ожидаемой социальной ситуации в качестве «опасной» в условиях неопределенности современного общества.
Список литературы Социальный риск: к определению понятия
- Альгин, А. П. Риск и его роль в общественной жизни/А. П. Альгин. -М.: Мысль, 1989. -187 c.
- Бек, У. Общество риска: на пути к другому модерну/У. Бек. -М.: Прогресс-тенденция, 2000. -384 c.
- Бек, У. От индустриального общества к обществу риска/У. Бек//Thesis. -1994. -Вып. 5. -С. 161-168.
- Буржуазная философская антропология XX века/под ред. Б. Т. Григорян. -М.: Наука, 1986. -295 c.
- Гаврилова, К. А. Риск и социальный контекст в «cultural theory» М. Дуглас: социологическая реконструкция/К. А. Гаврилова//Социологические координаты риска. -М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 2008. -С. 33-68.
- Гидденс, Э. Судьба, риск и безопасность/Э. Гидденс//Thesis. -1994. -Вып. 5. -С. 107-143.
- Гидденс, Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь/Э. Гидденс. -М.: Весь Мир, 2004. -120 c.
- Дуглас, М. Чистота и опасность: Анализ представлений об осквернении и табу/М. Дуглас. -М.: КАНОН-пресс-Ц: Кучково поле, 2000. -286 c.
- Никитин, С. М. Социологическая теория риска в поисках предмета/С. М. Никитин, К. А. Феофанов//Социологические исследования. -1992. -№ 10. -С. 120-127.
- Общество риска и человек: онтологический и ценностный аспект. -Саратов: Наука, 2006. -289 c.
- Поппер, К. Открытое общество и его враги. В 2 т. T. 2/К. Поппер. -М.: Феникс: Культ. инициатива, 1992. -349 c.
- Социология и управление риском//Социологические координаты риска/под ред. А. В. Мозговой. -М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 2008. -С. 7-18.
- Яницкий, О. Н. Россия как общество риска: методология анализа и контуры концепции/О. Н. Яницкий//Общественные науки и современность. -2004. -№ 2. -С. 5-15.
- Яницкий, О. Н. Социология риска/О. Н. Яницкий. -М.: LVS, 2003. -192 c.
- Яницкий, О. Н. Социология риска: ключевые идеи/О. Н. Яницкий//Мир России. -2003. -№ 1. -С. 3-35.
- Douglas, M. Risk and Culture: An Essay on Selection of Technological and Environmental Dangers/М. Douglas, A. Wildavsky. -Electronic text data. -Berkley, 1982. -Mode of access: http://bookfi.org/book/1364613. -Title from screen.
- Luhmann, N. Risk: A Sociological Theory/N. Luhmann. -N. Y.: Walter de Gruyter, Inc., 1993. -342 р.