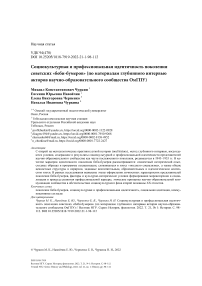Социокультурная и профессиональная идентичность поколения советских "беби-бумеров" (по материалам глубинного интервью акторов научно-образовательного сообщества ОмГПУ)
Автор: Чуркин М. К.., Навойчик Е.Ю., Черненко Е.B., Чуркина Н.И.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
С опорой на методологические практики устной истории (oral history), метод глубинного интервью, воссоздаются условия, содержание и результаты социокультурной и профессиональной идентичности представителей научно-образовательного сообщества как части послевоенного поколения, родившегося в 1943-1953 гг. В качестве маркеров идентичности поколения беби-бумеров рассматриваются: совместный исторический опыт, сходные образцы и программы социализации, сложившиеся в эпоху «позднего социализма», а также общие ценностные структуры и иерархии, заданные воспитательным, образовательным и идеологическим контекстом эпохи. В рамках исследования выявлены этапы оформления личностных характеристик представителей поколения беби-бумеров, факторы и культурно-исторические условия формирования мировоззрения и социализации в процессе развития профессиональной карьеры, этические принципы научно-образовательной коммуникации сообщества в обстоятельствах социокультурного фона второй половины ХХ столетия.
Поколение беби-бумеров, социокультурная и профессиональная идентичность, социальная адаптация, коммуникативное согласие
Короткий адрес: https://sciup.org/147236270
IDR: 147236270 | УДК: 94(470) | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-1-98-112
Текст научной статьи Социокультурная и профессиональная идентичность поколения советских "беби-бумеров" (по материалам глубинного интервью акторов научно-образовательного сообщества ОмГПУ)
Churkin M. K. , Navoichik E. Yu. , Chernenko E. V. , Churkina N. I. Sociocultural and Professional Identity of the Generation of Soviet “Baby-Boomers” (On the Materials of the Deep Interviews of the Actors of the Scientific and Educational Community of OmSPU). Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2022, vol. 21, no. 1: History, pp. 98–112. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2022-21-1-98-112
Потенциал поколенческого подхода как инструмента познания общества во второй половине ХХ – начале XXI в. оценивался и оценивается представителями гуманитарного знания стабильно высоко и воспринимается в качестве своеобразного ключа к прошлому как воплощенной истории [Ассман, 2019, с. 370]. Важность применения подобного подхода в исторических исследованиях определяется возможностью воссоздания идейно-политического контекста эпохи, образа жизни, форм коммуникации, стратегий и практик социального поведения человека «второго плана» в истории второй половины «короткого» ХХ в.
В рамках прошедшего в 2016 г. в РГГУ круглого стола, посвященного рефлексии состояния поколенческих штудий, отмечалось, что в настоящее время применение поколенческого подхода в гуманитарных науках стимулируется ускорением темпа общественных изменений. Это позволяет восполнить дефицит социально-исторического знания и объяснить наблюдаемые явления, а также спрогнозировать их дальнейшее развитие [Петрушихина, Солодовникова и др., 2016].
Данное утверждение созвучно саркастическому замечанию А. Шлезингера-младшего, согласно которому «последние два поколения явились свидетелями большего количества дос- тижений в области науки и технологии, чем предыдущие 798 поколений вместе взятых» [Шлезингер, 1992, с. 3]. Ученый отмечал, что в отличие от традиционного общества, в рамках которого каждое поколение лишь повторяло жизненные модели своих предшественников, с ускорением исторического процесса, новые поколения стали получать масштабный и разнообразный жизненный опыт, что позволило им приобрести особые отличительные черты [Там же, с. 21]. При этом он подчеркивал, что в последовательной смене поколений нет арифметической неизбежности, поскольку поколение – это не точное понятие, а почти метафора. Определяющую роль в проведении границ между поколениями играют эпохальные события, в ходе которых общий жизненный опыт предопределяет общие чувства и взгляды.
-
А. Шлезингер, опираясь на выводы родоначальников «теории поколений» К. Мангейма и Х. Ортега-и-Гассета, полагал, что даже внутригрупповая конфронтация внутри сообщества, принадлежащего к однородной возрастной группе, не отменяет реального единства их интересов, так как совместно воспринимаемые внешние воздействия дают каждому поколению если не единообразную идеологию, то, по меньшей мере, осознание своей особой, обособленной от других общности [Там же, с. 22].
Принятие положения о совместном историческом опыте, сходных образцах социализации и общих ценностных структурах как генерирующих маркерах принадлежности к возрастной группе, получившего развитие в трудах Н. Хоува, В. Штрауса [Strauss, Howe, 1991], А. Ас-сман (1990–2000-е гг.) [Ассман, 2014], дает возможность оперировать понятием «поколенческая идентичность», конструируя его максимально широко: поколения возникают не только благодаря дате рождения, но и на основе сходного жизненного опыта и сходных реакций на вызовы времени; в результате коммуникаций и дискурсов. Таким образом, поколения, принадлежащие к одному архетипу, имеют не только идентичный возрастной показатель, на время которого приходятся формирующие их события, но и ряд базовых установок по отношению к культуре, семье, обществу.
Важную задачу в настоящем исследовании призван выполнить социокультурный подход [Мертон, 2006], активно внедряемый в исследовательские практики гуманитаристики в 1980– 1990-х гг. с целью изучения культурного механизма социального взаимодействия как фактора идентичности индивидуумов, социальных групп и локальных сообществ. В настоящей работе применение социокультурного подхода предполагает выявление и комплексное осмысление институциональных (научно-образовательное сообщество) и внеинституцио-нальных (поколение) сторон социальной жизни советского периода. При этом культура рассматривается в качестве условия существования институций, а личность – как предпосылка формирования внеинституциональных структур.
Не менее существенные, смыслообразующие функции в работе выполняет понятие «этос» как объединение людей на основе взаимной присяги, что позволяет говорить об этом явлении как о системе ценностных предпочтений человека и различных общностей. При этом роль этоса не исчерпывается только конструированием образа, стиля жизни, сложившихся на основе «предпочтения одних ценностей и небрежения другими» [Оссовская, 1987, с. 6]. Этос выражает собой свойство фиксировать и сохранять нравственно-солидаристические связи общности в ситуации их размывания [Анчел, 1988, с. 4]. В данной связи этос решает и терапевтические задачи, конструируя корпоративную этику в процессе взаимоотношений индивида и группы (сообщества), в основе которой лежит идентичность как общность представлений людей, объединенных социальными или локально-профессиональными рамками.
В параметрах заявленной темы с опорой на методологические практики устной истории (oral history) как исследовательского направления, методы глубинного (неструктурированного) интервью воссоздаются условия, факторы, содержание и результаты социокультурной и профессиональной идентичности акторов научно-образовательного сообщества ОмГПУ – представителей послевоенного поколения, родившихся в 1943–1953 гг. В качестве основных маркеров социокультурной и профессиональной идентичности поколения беби-бумеров реф-лексируются: совместный исторический опыт, в активной фазе охвативший продолжитель- ный временной отрезок 1960–1990-х гг., сходные образцы и программы социализации, сложившиеся в эпоху «позднего социализма», а также общие ценностные структуры и иерархии, заданные воспитательным, образовательным и идеологическим контекстом второй половины ХХ в., принадлежность к профессиональной группе, осознающей свое культурное единство в процессе реализации научно-образовательной деятельности.
В ходе организации исследования, был определен круг участников научного сообщества ОмГПУ, представляющих поколение беби-бумеров. Выступить в качестве респондентов выразили согласие 11 преподавателей факультета истории, философии и права университета, в числе которых восемь кандидатов и три доктора наук в области гуманитарного знания. Исследовательской группой на основе метода полуструктурированного интервью была составлена программа устного собеседования, которое предполагало общий перечень вопросов и специфических тем, допускающих для интервьюера и интервьюируемых определенную свободу действий при формулировке ответов. Общая стратегия интервью – выявление коллективного жизненного опыта и сходных реакций на вызовы времени в результате профессиональной коммуникации. Реконструкция социокультурной идентичности беби-бумеров производилась с учетом тезиса, сообразно с которым разграничение поколений происходит благодаря переживанию знаковых исторических событий, воспринимаемых как исторические цезуры. Кризисы, войны, научные революции, общественно-политические инновации, оказываясь в синхронном временном горизонте многих возрастных групп, таким образом, различно переживаются в фазе конкретного поколения.
Формирование основ профессиональной идентичности акторов научно-образовательного сообщества ОмГПУ как сегмента поколения советских беби-бумеров происходило в детские, школьные и ранние юношеские годы в условиях семейного и социального окружения, что способствовало складыванию, усвоению и видоизменению представлений о самих себе, окружающем пространстве, народе, обществе, государстве.
Базис этоса поколения беби-бумеров как научно-образовательного сообщества формировался в рамках особого социокультурного фона в СССР конца 1940-х – 1960-х гг., наиболее рельефным признаком которого являлась память о прошедшей войне, транслируемая и поддерживаемая непосредственными ее участниками – фронтовиками. В дискурсе коммуникативной памяти беби-бумеров отчетливо выделен мотив героического опыта «молчаливого поколения», оцениваемого группой респондентов в качестве поведенческого стандарта: «Оба родителя пережили войну. Отец служил в пехоте. Его два брата погибли на войне. Один брат был военврачом, у него звезда героя. У маминого брата две звезды героя. Мы воспитывались с сестрами на примере военного поколения» 1; «Война чувствовалась во всём: разговоры за столом. Пели военные песни за столом, и это мной воспринималось как норма» 2.
Влияние памяти о войне на формирование социокультурной идентичности беби-бумеров реализовывалось в обстоятельствах детских повседневных практик: домашней среды, игровой коммуникации, внешкольного досуга.
Отсутствие или ограниченность непосредственных контактов послевоенного поколения с отцами-фронтовиками не отменяли общей атмосферы недавно прошедшей войны, которая поддерживалась ее отдельными артефактами и типичными бытовыми сюжетами. Так, респондент Ч. К. в воспоминании об эпизодах раннего детства, рассказывает, что «однажды в тумбочке нашёл погоны младшего офицерского состава. Один раз видел пистолет»; часть интервьюируемых повествует об особых приметах прошедшей войны – военнопленных и инвалидах в городах и сельских населенных пунктах: «…инвалиды без ног едут по булыжной мостовой. Немцы мостили дорогу» 3; «Отец был инвалидом. Не пострадавшие в годы войны мужики в колхоз не вернулись. Мне казалось, что мужики без руки, без ноги – это норма» 4; «Родители рассказывали, как тяжело и голодно было в военное время. В городе было много эвакуированных из Ленинграда, страдавших от дистрофии, которые выжили благодаря местному населению» 5.
Местом формирования поколенческой идентичности под воздействием прошедших военных событий выступали детские дворовые площадки, на которых игра в войну была основной: «Любимые игры – войнушка, прятки, что-нибудь делали и из этого стреляли» 6; «На улице играли только в войну (в пехотинцев). Как только бегать научился, любимая игра всех мальчишек – война. Бегали с палками, изображая оружие. Постарше стали – начали окопы рыть» 7; «Любимая игра – в вырезанных солдатиков (советских, немецких)» 8. Симптоматично, что некоторые респонденты подобный интерес к играм милитаристского содержания объясняют своеобразным «дефицитом» острых ощущений поколения детей, которым не досталось героики военной поры. Ч. К. комментирует: «В войну играли, но войны не хватило. Добирали на улице» 9.
Важная функция в поколенческом коммуникативном согласии беби-бумеров с точки зрения воздействия памяти о войне на идентичность принадлежала таким «площадкам» репрезентации, как художественная литература и кинематограф. Вспоминая о круге чтения в детский период, беби-бумеры выделили литературу приключенческого и военного жанров: «Считаю, что было много интересных книг, и мир постигался через приключения и военную беллетристику» 10; «…до восьмого класса читал военно-приключенческие книжки в мягких обложках. С патриотической спецификой» 11; «Читала “Ивана Денисовича” и роман-газету. Роман “Живые и мертвые”» 12.
Знаковую роль в поддержании позитивной памяти о войне и формировании поколенческой идентичности беби-бумеров играл кинематограф. Участники «глубинного» интервью проявили высокую степень единодушия в оценке воспитательного значения кинематографической продукции 1950–1960-х гг., подчеркнув, что преобладающее место занимали фильмы, посвященные прошедшей войне: «Основным развлечением было кино. Даже в деревенский клуб привозили фильмы, и дети, лёжа вповалку, могли смотреть кино… В Красноярске было много кинотеатров. Я со старшим братом в выходные получал 10 рублей (до реформы) на кино. Билеты стоили 3–5 рублей. Из трофейных фильмов помню два: “Тарзан”, “Серенада солнечной долины”. Много было фильмов про войну, которые мы очень любили» 13; «…фильмы в основном про войну» 14.
В целом коммуникативная память о Великой Отечественной войне в представлениях беби-бумеров являлась важным фактором поколенческой солидарности, проявлением которой в международной, социально-политической и культурной ситуации СССР 1950–1960-х гг., становилась не только апологетика героических сюжетов отечественной истории 1940-х гг., но и понимание сущности войн как катастрофических событий: «Когда я впервые ночевал в новой квартире, проснулся от жуткого грохота. Первая мысль – атомная война началась» 15; «Основная масса населения, реагируя на сложности жизни в СССР, имела установку, что ничего страшного не происходит. Лишь бы не было войны» 16.
Система нравственно-этических ценностей поколения беби-бумеров оформлялась не только под влиянием межпоколенческой трансляции памяти о прошедшей войне как знаковом инструменте гражданского воспитания, скрепленного государственной идеологией. В теории К. Мангейма феномен поколений заключается в том, что он представляет собой один из генетических факторов динамики исторического развития, своего рода модель взаимодействия поколений. По логике Мангейма, идущие друг за другом поколения как бы налагают свои энтелехии на более общие, устойчивые энтелехии разных, подчас противоположных тенденций [Мангейм, 2000, с. 55]. В данном отношении этос беби-бумеров формировался при непосредственном участии и вследствие культурного воздействия представителей поколения GI (поколение победителей), родившихся в конце XIX – начале XX в. и взрослевших в катастрофических условиях революций, войн и социальных экспериментов (построение социализма в отдельно взятой стране). Это поколение бабушек и дедушек наших респондентов. В описании и расшифровке качеств поколений, в частности поколения победителей, в исследовательской литературе установилось достаточно устойчивое и шаблонное мнение, в соответствии с которым представители поколения «победителей», выросшие на советских идеалах, отличаются верой в социалистическую идеологию, высоким уровнем ответственности и трудолюбия. Жизнь для таких людей – это в первую очередь борьба за светлое будущее. Лучший мотиватор для «победителей» – достижение общего порядка и справедливости. Деньги же для представителей этого поколения нужны только как средство существования, но не как цель, поэтому большой ценности не представляют [Ожиганова, 2015, с. 95]. Частично соглашаясь с этим тезисом, отметим, что формирование идентичности поколения GI происходило в особых социокультурных обстоятельствах сословного государства, каковым являлась Российская империя. Представители поколения в досоветский период располагались в разных социальных стратах, а процесс их взросления характеризовался несходными условиями образования, воспитания, коммуникации, материальных возможностей, что позволяет говорить не столько о поколенческой, сколько о сословных идентичностях. В процессе «глубинных» интервью с беби-бумерами было установлено, что представители поколения GI в основном позитивно оценивали уровень собственной жизни в досоветский период: «Бабушка рассказывала мне, что в батраках они были всего год, так как заработанных денег им хватило для того, чтобы поставить избу и начать создавать своё хозяйство» 17; «На мои наивные пионерские вопросы о том, как плохо она, наверное, жила при помещиках, бабушка твердо отвечала – хорошо жила» 18.
В рамках советской репрессивно-карательной системы оставшиеся в СССР представители поколения выбирали три основных стратегии поведения: сознательное принятие конвенций нового общества, социальный конформизм, «внутренняя эмиграция» 19. Показательно, что все названные стратегии в повседневной жизни части «бывших» сопровождались осознанием необходимости адаптации к существованию в стране «отсроченного счастья» [Рейли, 2015, с. 28], в которой отчетливо прослеживаются два вектора: трансляция опыта выживания в экстремальных условиях и культуртрегерство, адресованные не детям (молчаливому поколению, сформированному в советской системе), а внукам (беби-бумерам), интенсивное общение с которыми в период 1950-х – 1960-х гг. при производственной занятости родителей становится важным воспитательным и обучающим сюжетом реальности. В ходе бесед с бе- би-бумерами выяснилось, что подавляющая часть респондентов (8 из 11) упоминают в своих рассказах о контактах с бабушками и дедушками. При этом четверо интервьюируемых (32 %) утверждают, что их коммуникация с представителями GI-поколения имела значимый воспитательный и образовательный эффект: «Очень хорошо помню бабушку, с которой много общался… У родителей не было времени. Интерес к прошлому формировался через общение с бабушкой… Бабушка из купеческой семьи, зажиточной, закончила гимназию, много читала, смотрела по телевизору фильмы с французскими субтитрами» 20; «Бабушка-украинка, Наталья Васильевна – практически неграмотная – как высокий образец культурной и бесконечно доброй русской женщины. С бабушкой находился больше всего по времени до школы. Бабушка какое-то время успела послужить у барыни. Но про то время и как ей жилось тогда, не спрашивал. Бабушка безумно любила внука, как и все бабушки…» 21; «…Мама в тридцать лет родила сына. Кто отец неизвестно. С мамой на эту тему никогда не было разговоров. Сам никогда не интересовался, так как хватало любви бабушки – “бабуси”. Бабушка из крестьян…» 22; «Бабушка закончила церковно-приходскую школу, писала, читала, умерла, сидя за столом за книгой. Бабушка много читала детям в 1920–1930-е гг., классику, романы. В юности она пела на клиросе. Никто в церковь не ходил, но и атеистами не были. Бабушка рассказывала внучке, что церковь давала им, беднякам, красоту – говорила, что они были “чисто ангелы”… Внучка сказала бабушке, что Бога нет, так как Гагарин не видел его в космосе. Она ответила, что Бог – это не то, что можно увидеть глазами» 23.
В контексте коммуникации с поколением GI в сознании беби-бумеров складывалась иерархическая система ценностей, в которой синонимом понятия «материальное» являлось «необходимое». В советском фильме режиссера О. Ефремова «Старый Новый год», присутствует любопытный диалог периферийного героя Адамыча (поколение победителей) с беби-бумерами такого рода: «– У меня всё есть… – А что есть?.. – А что надо… – А что надо?.. – Что надо, то и есть…» 24. В коммуникативном пространстве трех поколений, взаимодействующих в послевоенный период, демонстрировался высокий уровень эластичности жизненного стандарта, что предполагало уникальную способность «затягивать пояса», стремление вырабатывать такие стратегии и практики, которые были бы направлены на сохранение и некоторое улучшение качества жизни, во всяком случае в границах концепции «выжить, во что бы то ни стало». Опрошенные респонденты, проявили согласие в ответах на вопрос, касающийся материальных условий жизни: состояния жилья, обеспеченности питанием, одеждой и т. д.: «Мы видели, во что были одеты, как скромно и как красиво… Мама обшивала дочерей, племянниц и золовок… Благодаря любви родителей, особенно отца, у меня не возникало чувство ущербности или не полноценности, чувства несправедливости и зависти. В школу меня отправили в сестринской форме с дыркой на спине и дали портфель с ржавым замком и только на день рождения мне подарили форму. И я ее носила до 7-го класса. Это было скромно, но так жили все…» 25; «Питались нормально. Две бабушки. Разносолов не было (картошка жареная, по праздникам пирожки). Ощущения голода не было. Когда возникал недостаток в продуктах, бабушка говорила: «иди паслёнчик 26 пособирай. Пили кофе (из кофейного порошка). В воскресенье утром всегда был кофе 27; «Питание было самое простое – лапша, картошка, но ощущения голода не было» 28; «Сдавали шкуры, рога и копыта – обязаны были сдать, если забивали корову. Жестко было. Спасало, что больше хлеба было и с каждым годом всё больше. Казалось, что жить стало лучше» 29; «Жили очень бедно. Родители спали на панцирной кровати, я – на больничной кушетке, а “шкаф” был с гвоздями, вбитыми в стену… Рядом не было ни дедушек, ни бабушек» 30; «Питались мы нормально. В сибирской деревне с огорода можно было прокормиться. Была и курочка, и овощи. Но одевались очень плохо, потому что не было денег» 31.
В лаконичной и оценочной форме отношение к практикам существования, сложившимся в годы послевоенного детства, выразил один из респондентов: «Всегда были скромные запросы. Было безоблачное счастье. Ощущение, что будет лучше: наши родители жили с мыслью, что детям будет лучше, а я живу с мыслью, что моим детям будет хуже» 32.
Стоит отметить, что приобретенный беби-бумерами в процессе межпоколенческой коммуникации опыт существования в условиях материальных ограничений, в современном понимании близких к экстремальным, являлся для них стандартом, адаптивным оптимумом, способствовавшим реализации продуктивной деятельности в процессе дальнейшего построения научно-образовательной карьеры. Форматом личного профессионального успеха выступало состояние, определяемое социологом А. Юрчаком как «вненаходимость», реализуемая в дистанцировании субъекта и целых социальных сред как от политического дискурса государства, так и от политической активности оппозиции [Юрчак, 2014, с. 26].
Способность абстрагироваться от материальных трудностей, самостоятельно выбирать и расставлять приоритеты в пользу конструирования профессиональной карьеры предметно проявились у поколения беби-бумеров в период социального взросления и инкорпорации в научно-образовательное сообщество. Интервьюируемые, оценивая опыт включения в профессиональную корпорацию, подчеркивают самостоятельность выбора и в основном согласованно свидетельствуют: «Мысли о поступлении в институт определились опытом самостоятельной жизни: я понял, что мне становится неинтересно в рабочей среде. Желание двигаться дальше. Склонность к переменам и способность к ним. Понял, что единственный факультет – исторический» 33; «Выбор был совершенно бездарный. Папа умер, когда я учился в 8-м классе (1968 г.), поэтому подсказать мне уже не мог, но всегда говорил, что выбирать нужно серьезную профессию. Любимый предмет был геометрия. Но еще интересовали история и литература. На филфак поступали одни девчонки, по истории для меня всегда были проблемой даты (не мог и не могу запомнить). Я выбрал ближайший к дому ВУЗ – Транспортный, поступал на факультет с самым большим конкурсом» 34; «Выбрал Томский университет во время службы в армии, поскольку Красноярск и Новосибирск проиграли в конкуренции. Я закончил техникум с красным дипломом и сдал один экзамен на отлично, приехав в Томск во время короткого армейского отпуска…» 35; «Сразу был настроен на службу в армии. Захотел сам. Книги военные повлияли. Хотел в пограничное училище после пойти. Служил три года – два в Москве. В музей – Третьяковку и Исторический – ходил постоянно. Командир роты, участник войны, отсоветовал идти в пограничное училище. Поступал в институт в военной форме. Всё на пятерки, кроме английского. Преподаватель поставила тройку (пожалела)» 36; «Поступила в университет не сразу. Вместо поступления были “дружески-любовные” приключения, что полностью переключило сознание, не могла сосредоточиться. Работала сначала лаборантом в школе, а потом пошла на завод. В столе лежал Гегель. Пыталась готовиться к поступлению. Начальник предложил поступать в Ленинград на перспективную специальность с ЭВМ, давали целевое направление, даже сдав на “3”, можно было поступить. Но я не отказалась от мечты. Поступила в двадцать лет. Закончила в двадцать пять» 37.
Навыки существования в обстоятельствах секвестированного комфорта послевоенного времени позволяли беби-бумерам рассматривать житейские трудности как объективный фон, не могущий быть серьезным препятствием в профессиональной реализации. Непритязательность быта, по свидетельствам интервьюируемых, сопровождала их на протяжении всего цикла включения в научно-образовательное сообщество: «…собирались на квартирах или за ТЭЦ на месте слияния Оми и Иртыша (можно было выпить, закусить, поговорить). Библиотека была самым “тусовочным” местом… В конце 1970-х гг. возникли проблемы с продовольствием. Вывозили в зал тележку с нарезанной колбасой, и нужно было ухватить свой кусок. Отдельная тема – поддержка взрослых детей родителями. Зарплата ассистента – 125 рублей плюс дополнительные заработки. Пожилые родители помогали детям. Обычным делом были летние “шабашки”… Шутили, что во всей Сибири жить можно, если иметь маленький ЯК-40, потому что везли из Тюмени – рыбу, из Барнаула – масло и сыр, из Томска – конфеты, из Новосибирска – кукурузные палочки и пепси. В аспирантуре сбивались в “стайки”, сбрасывались деньгами, продуктами, готовили по очереди. Ходили на разгрузку вагонов. Жили хорошо и дружно, много разговаривали» 38; «Парни серьезно работали в стройотряде. Мы строили элеватор. Девушки у нас по-черному ездили проводницами на Ташкент, всё лето… В аспирантском общежитии была бурная жизнь, нравы были примерно как в Римской империи после упадка. Единственное, что сдерживало – это недостаток средств. Финансово и семья и я жили не шибко… Но внутренний голос мне громко говорил, что надо решать основную задачу, чем я и занимался» 39; «Материально жили средне. Не всегда хватало денег. Отпуск проводили в Красноярке в щитовых домиках» 40; «Питание в семье было обычное, советское. Без особых разносолов и вкусностей. Суп, картошка, рыба. Иногда котлета» 41; «В бытовом отношении чувствовал себя комфортно, поскольку там, где я вырос, все жили очень скромно. Ничего особенного в очередях и дефиците товаров не видел. Мы не голодали» 42; «Поступила в университет. Общежитие не дали, так как в семье был доход, который не давал основания для получения места. Сначала жила у сестры на 1-м курсе. Потом – комната в квартире на двоих в доме у двух татарок. Топили печь. Опыт “бездомья”» 43.
«Вненаходимость» беби-бумеров проявлялась в абстрагировании не только бытовом, но и политическом, что во многом было обусловлено возрастными особенностями группы, а также временным лагом между периодом их активной социализации (студенческий, аспирантский, преподавательский периоды) и процессами краткосрочной «оттепели», начавшимися в СССР после смерти И. В. Сталина. Характерно, что родившиеся между 1946 и 1953 гг. респонденты сохранили в воспоминаниях детства семейные, но не личные впечатления (за исключением самых старших – 1946–1949 г. р.), связанные со смертью «вождя и учителя». Во многом поэтому ощущение глобальных перемен в период между 1956 и 1964 гг. не было зафиксировано в культурном габитусе поколения: «Первое детское впечатление – смерть Сталина (четыре года): мама гладила бельё и упала в обморок» 44; «Мама качала коляску (с младшим братом) и слушала сообщение о смерти Сталина и плакала (плакали все). Слёзы были ненадуманные. Отец так не переживал (фронтовик, повидавший много смертей)» 45; «Свою сознательную жизнь я отсчитываю с начала марта 1953 г., со смерти Сталина. Я сидел в зале на полу и расставлял какие-то свои игрушки, мама стряпала на кухне. И вдруг из чер- ного круга репродуктора прозвучало сообщение о смерти Сталина. В ужасе я подскочил и бросился на кухню со страшным криком: “Это врачи… это врачи его отравили!!”. Точно помню, что у мамы руки были в муке, и она не могла обхватить мою голову ладонями и как-то прижала ее к себе неловко кистями. Еще ничего не понимая, она, крайне перепугавшись, выскочила в комнату. А там Левитан снова и снова своим замогильным голосом повторял сообщение о смерти вождя. Тут зарыдала и она. Мне стало ещё страшнее» 46.
Социокультурная атмосфера в СССР 1960-х гг. воспринималась «младшим» сегментом поколения беби-бумеров по-детски наивно: «Во втором классе в космос полетел Гагарин, тогда же стали строить коммунизм. Мы сожалели, что до коммунизма еще так далеко, мы уже станем взрослыми, а взрослым коммунизм и не очень нужен… Про космос не поверила только бабушка, которая твердо говорила – врут!» 47. Старшие респонденты (1946–1949 г. р.), характеризуя политический контекст эпохи, обращают внимание на отдельные «диссидент- ские» разговоры, осторожно купируемые родителями, хорошо помнившими период сталинских репрессий: «Откровенные разговоры начались в хрущёвское время, после 1956 г., даже в 1960-х (1961 г.)… Разговоров в семье было много. Звучала критика прошлого. В подростковом возрасте понимания перемен не было» 48; «Было ли ощущение изменений в конце 1950-х гг.? Помню разговоры с отцом, когда я был старшеклассником о том, как живёт страна, об экономике. Отвечал, что мне не нравится, что меня везут в телячьем вагоне, без окон и дверей… Именно тогда партия перестала нравиться. О переменах читал задним числом. Волны либерализации не заметил» 49; «Смутно помню разговоры про ХХ съезд, секретный доклад Хрущева. Но в семье это не обсуждалось» 50; «1959–1968 гг., до поступления в институт – очень насыщенные годы в истории страны. Я считал, что эта насыщенность – норма
(имеется в виду густота политических событий). Ощущения больших изменений не было» 51; «Вообще не помню никаких “оттепельных” явлений. Играл в футбол, о прочем думал ма-
ло»
Вместе с тем в сознании родившихся в начале 1950-х гг. восприятие политической и культурной реальности СССР претерпевало некоторые изменения, что сказывалось и на оценочных суждениях: «К окончанию школы почувствовала сомнение. Это был 1967–1968 гг. Помню события в Праге. Готовила доклад на политинформацию. Поведение комсомольских лидеров строилось по двойным стандартам. Был разрыв между словом и делом… Начинали слушать “голоса”. Впервые услышала по радио об “Архипелаге ГУЛАГе”» 53; «Мои родители не сталинисты, а я воинствующая антисталинистка. Прочитала Ю. Германа “Дело, которому ты служишь”, героиня прошла лагеря, но говорила: “Не троньте”. Для меня это было абсолютно не понятно: “Как это так?”. Через книги началось отношение к сталинской эпохе» 54; «В старших классах появились “Битлз”, каждый их концерт был событием. Слушали записи, это страшно нравилось… За двором по улице Герцена, где было оживленно, мы ходили смотреть на стиляг. Один из соседей был стиляга (брат товарища). “Оттепель” для меня связана со стилягами и осуждением культа личности Сталина. Отец, говоря об этом, замечал, что репрессии как-то мимо нас прошли» 55.
Выскажем предположение, что корректирующее влияние на «вторичные воспоминания» беби-бумеров не могла не оказывать специфика организации гуманитарного образования в СССР (в большей степени исторического, в меньшей – философского), мобилизующая по- литическую лояльность членов научно-образовательного сообщества к правящему режиму, что становилось элементом конвенционального поведения и фиксировалось в сознании, накладывая определенный отпечаток и на воспоминания поколения. По свидетельству А. Макаревича, «…никому не приходило в голову, что в этой стране вообще что-то может измениться. Об этом ни взрослые, ни дети не думали. Была абсолютная уверенность, что так мы будем жить вечно» [Юрчак, 2014, с. 29].
В этой связи период окончательного включения поколения советских беби-бумеров в научно-образовательное сообщество пришелся на конец 1970-х – начало 1980-х гг., когда большинство его представителей находилось в возрастном диапазоне 25–35 лет – время кризиса самоутверждения (карьерного роста), предполагающего, что человек должен предъявить «urbi et orbi» (граду и миру) предварительные результаты своего жизненного цикла, освободившись от нонконформистских амбиций. Кроме того, в условиях свертывания политики общественной либерализации стратегии социального поведения беби-бумеров корректируются. Крушение надежд и ожиданий эпохи «оттепели» поставило их перед фактом социальной адаптации к новым условиям политической и культурной реальности, что предопределило выбор пути профессионального совершенствования, строительства партийной, административной, научной карьеры.
По результатам интервью было установлено, что респонденты, разными путями (школа, СПТУ, производство, аспирантура) двигаясь по карьерной лестнице, оказались включены в научный и образовательный процесс вуза в период 1976–1988 гг. Оценивая свой статус как преподавателей и научных сотрудников в этот период, беби-бумеры продемонстрировали устойчивую солидарность в характеристике достаточно высокого материального уровня и позитивной общественной атмосферы, благоприятной для реализации карьерных планов, что выступает в качестве базовых признаков идентичности группы: «Когда я стал доцентом, мы были очень обеспеченные. Для понимания, моей зарплаты хватало для покупки двух путевок в санаторий “Солнечный берег” на 24 дня и на билеты на поезд до Краснодара. Покупали всё необходимое: еду, одежду. Поменять квартиру было сложно. Но мы так задачу и не ставили, за квартиру платили 18 рублей (примерно 5 % от зарплаты). Купить машину, конечно, с этой зарплаты не могли, цена на машину была специально завышена… Пока я работал в университете, то был больше преподаватель, чем научный работник. Воспитание студентов шло через вовлечение в деятельность. Наши художественные дела я тоже считаю важной частью воспитания. Мне не раз говорили мои выпускники, что прежде всего вспоминаем не лекции, а художественные вечера, которые мы готовили» 56; «Еще до возвращения из армии мне пообещали работу на межфаке ОмГПУ. Единственное условие – надо вступить в партию. В армии это было очень просто. Был заместителем по идеологии в парткоме. Доносились “отголоски” застоя, но больших сомнений в советской системе не было» 57; «После окончания института остался работать на кафедре истории СССР. На факультете душевная атмосфера. Работал в парткоме. Был заместителем секретаря. Приглашали на освобожденную должность. Но археология была на первом месте, и поэтому не согласился. Интенсивной научной жизни не было. Опубликовав пару статей, можно было ничего не делать. Получал доцент 490 рублей. И это неправильно» 58; «В пединститут пришёл весной 1978 г. Сначала работал на рабфаке. Читать исторические дисциплины было проблематично, поскольку я был беспартийным. Потом читал дисциплины у заочников. Вёл семинары, и на меня студенты написали докладную, что лектор и ведущий семинары говорят разные вещи. Преподаватель, читавшая лекционный курс, вместо того, чтобы сказать: “Пошёл вон”, предложила курс разделить. Для такого варианта, чтобы ассистент читал курс, требовалось специальное разрешение. Про взаимоотношения на факультете ничего сказать не могу, поскольку чужая жизнь меня не касалась и не интересовала. Большую часть свободного времени проводил на фа- культете, даже когда не было часов. В деканате с утра до вечера курили и резались в шахматы» 59.
Показательно, что наметившаяся в конце 1980-х – 1990-х гг. внутригрупповая конфронтация, связанная с несходством, а иногда и полярной противоположностью оценки текущей политической и социокультурной ситуации, не стала препятствием для поддержания поколенческой идентичности и осознания своей особой общности: «В конце 1980-х больших изменений не чувствовалось. Омск – провинциальный город. Устраивались какие-то скучные мероприятия (суд над Сталиным). Мне показалось, что происходившее очень напоминало события конца XIX в. В начале 1990-х гг. были митинги. Впечатление: “Боже мой, эти идиоты нами управляют?”. Партия потеряла свой авторитет, и было непонятно, что будет дальше? … В новых экономических условиях 1990-х гг. истфак жил очень трудно, и мы устраивали пикеты у обкома. Потом создали коммерческую организацию, обеспечивавшую поддержку преподавателей, и я уже больше ничем не занимался» 60; «Изменения в стране почувствовались, когда пришёл Горбачёв. Я относился к нему положительно, потому что Горбачёв и Яковлев стали говорить такие вещи, которые предполагали возможность принятия самостоятельных решений на местах. На этой почве происходили “расколы”, в том числе и в научно-образовательном сообществе. Появилась в преподавательских рядах “позиция” и “оппозиция”. Студенты были заведены до предела, впоследствии (1988–1989 гг.) проявив изрядную общественную активность. В университетском коллективе “разлом” был более резким» 61; «1990-е годы провела замечательно по причине того, что занималась любимым делом. Вместе с группой талантливых ребят-художников в институте повышения квалификации открыли галерею современного искусства. Это был энтузиазм, не оплачиваемый, это был опыт. Я забыла, что такое сливочное масло, но я его не сильно-то и хотела. Рядом умирали от голода, зарплату не платили. Готова была на любую работу. Люди помогали друг другу. Кто яблоки с дачи предложит, кто – кабачки, грибы…» 62.
Различия в представлениях и трактовках ситуации, сложившейся в период «позднего социализма» и начального этапа российской государственности, не смогли «перебороть» те поведенческие конвенции, которые являлись универсальными для поколенческого сообщества: оптимизм, заинтересованность в личностном росте и вознаграждении, коллективизм и командный дух, культ молодости, взвешенный конформизм. Показательно, что, по-разному расставляя акценты в характеристике самого знакового события в личной биографии, тесно соединенного с биографией страны, – распада СССР, респонденты констатируют, что крах советской империи и трудности «переходного периода», серьезно стимулировали их карьерные перспективы, способствовали достижению оптимального уровня жизни и бытового комфорта: «Жить было трудно, были проблемы с зарплатой в университете (1992–1995 гг.). Нас прекратили финансировать в полном объёме, отключили свет, тепло. Стали зарабатывать деньги сами… на даче сажали картошку, дома были запасы: мешок с сахаром, мукой и проч. запасами. Люди стали уходить из университета в бизнес. Вместе с тем университет жил, приобретались компьютеры, государство не дёргало» 63; «…перестройка и последующие события во многом помогли мне сделать политическую карьеру, чего, скорее всего, в советское время бы не было» 64; «Я был очень рад распаду СССР, что от нас ушли грузины и прибалты, всё остальное мне, конечно, не нравилось. В дни августовского путча мне не было однозначно понятно, на чьей я стороне. С одной стороны, было ясно, что это честные люди. Например, генерал Пуго. Но, с другой стороны, возвращаться назад мне точно не хотелось. Я согласился стать проректором, так как представлял набор тогдашних докторов, и мне казалось, что я не хуже… А потом, сказать честно, все эти голодовки надоели. Я помню, жена в ответ на мои размышления, сказала, давай поживем по-нормальному» 65; «Распад СССР – это катастрофа. Очень переживали. Я до сих пор считаю, что это какая-то странная история. 1990-е гг. перенесла плохо. … Все время зарабатывали. Мой муж ходил по городу, открывал все двери и предлагал свои услуги, так как ему восемь месяцев не платили в институте. Спасали друзья… Давали деньги, привозили продукты с дачи… В конце концов, мужу повезло, и он нашел работу. Последние 14 лет он был чиновником, начальником департамента даже…» 66.
Таким образом, подводя общие итоги, необходимо отметить как типические, свойственные всему поколению беби-бумеров черты социокультурной идентичности группы, так и уникальные, характерные для научно-образовательного сообщества признаки профессиональной самоидентификации и корпоративного единства – состояния, определяемого А. Ватлиным [2013] как пребывание «на одной волне».
Атмосферным фоном формирования идентичности беби-бумеров, в отличие от их предшественников – GI и «молчаливого» поколения, переживших войны, социальные и гражданские катастрофы, государственный террор, являлась относительно спокойная «вегетарианская» ситуация «позднего» социализма второй половины ХХ в. Тем не менее в процессе интенсивной межпоколенческой коммуникации складывание этоса беби-бумеров происходило с опорой на травматический опыт, стратегии и практики социального поведения старших поколений. Результатом этого взаимодействия стало достижение коммуникативного согласия поколения беби-бумеров в сфере референций (на уровне знания, норм, оценок и чувств), что проявилось в «эластичности» стандартов 67 существования – бытовых и социальных, высокой мотивации достижения в рамках предложенных государством конвенций и адаптивного потенциала, направленного на обеспечение ограниченного, но приемлемого в заданных условиях жизненного комфорта. Крах советской империи стал для поколения беби-бумеров ментальной катастрофой, разрушившей стройную систему представлений о мире и своем месте в нем, что активировало ностальгию по воображаемому прошлому с привычными его характеристиками: стабильностью и нормальностью.
Вместе с тем в рамках научно-образовательного сообщества гуманитарной интеллигенции, что подтверждается материалами глубинного интервью, социокультурная и профессиональная идентичность беби-бумеров была подвержена определенным коррекциям. Применительно к исследуемой группе можно говорить о своеобразном «сцеплении», возникшем между универсальными поколенческими характеристиками и социокультурной ситуацией рубежа ХХ–XXI вв., когда в условиях разгосударствления и общественной либерализации происходила стремительная смена элит, и перед сегментом поколения, обладавшим высоким образовательным цензом, открылись благоприятные и осуществимые перспективы профессиональной и интеллектуальной реализации.
Список литературы Социокультурная и профессиональная идентичность поколения советских "беби-бумеров" (по материалам глубинного интервью акторов научно-образовательного сообщества ОмГПУ)
- Анчел Е. Этос и история. М.: Мысль, 1988. 126 с.
- Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М.: НЛО, 2014. 328 с.
- Ассман А. Забвение истории – одержимость историей. М.: НЛО, 2019. 552 с.
- Ватлин А. Ю. В поисках «истинного социализма»: историческое сознание поколения перестройки // Форум новейшей восточно-европейской истории и культуры. 2013. № 1. URL: http://www1.kueichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss19.html (дата обращения 04.07.2021).
- Мангейм К. Проблема поколений // Мангейм К. Очерки социологии знания: Проблема поколений. Состязательность. Экономические амбиции. М., 2000. С. 8–63.
- Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, 2006. 873 c.
- Ожиганова Е. М. Теория поколений Н. Хоува и В. Штрауса. Возможности практического применения // Бизнес-образование в экономике знаний. 2015. № 1. С. 94–97.
- Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали. М.: Прогресс, 1987. 528 с.
- Петрушихина Е. Б., Солодникова И. В. и др. Поколенческий подход в гуманитарных науках // Вестник РГГУ. Серия: Психология, педагогика, образование. 2016. № 4 (6). С. 139–150.
- Рейли Д. Советские бэйби-бумеры. Послевоенное поколение рассказывает о себе и о своей стране. М.: НЛО, 2015. 544 с.
- Шлезингер А. М., мл. Циклы американской истории. М.: Прогресс, Прогресс-Академия, 1992. 688 с.
- Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: НЛО, 2014. 664 с.
- Strauss W., Howe N. Generations. New York: William Morrow & Co., 1991. 538 p.