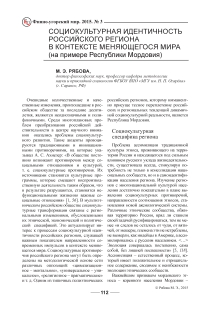Социокультурная идентичность российского региона в контексте меняющегося мира (на примере Республики Мордовия)
Автор: Рябова Марина Эдуардовна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 3, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются социокультурные аспекты изменения российского общества, характеризующегося мультиэтничной спецификой. Сделан вывод о смене содержания социокультурной системы в российских регионах.
Социокультурные противоречия, культурная программа, этнос, аксиологическая система
Короткий адрес: https://sciup.org/14723206
IDR: 14723206
Текст научной статьи Социокультурная идентичность российского региона в контексте меняющегося мира (на примере Республики Мордовия)
Очевидные количественные и качественные изменения, произошедшие в российском обществе за последние десятилетия, являются неоднозначными и полифоничными. Среди многоплановых проблем преобразования российской действительности в центре научного внимания оказались проблемы социокультурного развития. Такие акценты провоцируются традиционными и инновационными противоречиями, на которые указывал А. С. Ахиезер: «В обществе постоянно возникают противоречия между социальными отношениями и культурой, т. е. социокультурные противоречия. Их источниками становятся культурные программы, которые смещают воспроизводственную деятельность таким образом, что в результате разрушаются, становятся нефункциональными жизненно важные социальные отношения» [1, 56]. В мультиэт-ническом российском обществе социокультурные трансформации связаны с региональными изменениями, обусловленными их этнической, экономической и политической спецификой. Это актуализирует интерес к процессам социокультурной идентичности российских регионов, служащей важным показателем направленности современных импульсов в контексте меняющегося мира. Социокультурные противоречия российского региона могут быть определены на методологической основе сети различных оппозиций: «цивилизационное – ментальное», «универсальное – уникальное», «религиозное – прагматические» и т. д. Одним из типичных полиэтнических российских регионов, которому имманентно присуще тесное переплетение российских и региональных тенденций динамичной социокультурной реальности, является Республика Мордовия.
Социокультурная специфика региона
Проблема ассимиляции традиционной культуры этноса, проживающего на территории России и находящегося под сильным влиянием русского уклада жизнедеятельности, существовала всегда, стимулируя потребность не только в консолидации национальных сообществ, но и в самоидентификации населения региона. Изучение регионов с многонациональной культурой населения достаточно показательно в плане выявления социокультурных противоречий, направленности соотношения этносов, становления новой аксиологической системы. Различные этнические сообщества, обживая территорию России, вряд ли ставили своей задачей русифицироваться, тем не менее «и следов не осталось от чуди, от вятичей, от мещеры, племена эти не истреблены, не вымерли, как индейцы в Америке, а ассимилировались с русским населением. <…> Эволюция совершалась постепенно, сама собой, без лишней поспешности» [5, 118 ]. Ассимиляция ‒ естественный процесс, который имеет положительное и отрицательное содержание, сводимое к неизбежности эволюции этнических сообществ.
Важнейшим признаком мордовского этноса ‒ коренного населения Мордовии ‒
является его расщепленность на две крупные этнические группы: мокша и эрзя. Этноним «мордва» впервые зафиксирован в сообщении Иордана (VI в. н. э.) в контексте упоминания покоренного готами народа «mordens» [11, 65 ]. Дуальность самосознания этноса сыграла огромную роль в его выживании и развитии. Опредмечивание этносом территории вокруг себя, приспособление к особенностям заселенного пространства, создает образ «своей» реальности. Окружающая природная среда, ее условия оказывают влияние на специфику формы поселений, детерминированную психологией этноса.
Разбросанность поселений в междуречье Волги и Оки, исключительно сельских (деревень, выселков, околотков, починков, сел, селец), наблюдалась вплоть до середины XIX в. Материальных следов, достоверных сведений о существовании у древней мордвы крупных поселений городского типа в настоящее время нет. Поселения мордвы моделируют форму освоения этносом пространства-времени в контексте внешних и внутренних границ, организующих взаимодействие с окружающей действительностью. Примечательно, что поселения мордвы не контрастировали с природным ландшафтом, а гармонично вписывались в него. Подражание миру природы характеризует мордву как этнос с архаичной культурой со всеми ее обычаями и особенностями. Например, самый сакральный объект для мордовского этноса ‒ дерево ‒ ассоциируется с божеством и предком рода. Природа послужила основой для формирования национального менталитета, присущего мордовскому этносу. Древняя дохристианская мордовская культура характеризовалась гилозоизмом и анимизмом ‒ верой в одушевленность космоса, материи, проявлений природы. Поэтому любое действие осуществлялось после обращения к духам-хранителям с запросом на разрешение или покровительство.
Следует отметить, что на протяжении столетий мордва сохраняла этническую стабильность в наследовании традиций. Устойчивость к архаике формируется еще в первобытную эпоху. Однако под влиянием совершающихся преобразований тради- ционная этническая культура все же ослабевает и подтягивает к себе новый мир «чужой» культуры, с которой находится в тесных контактах. Наиболее константные этнокультурные отношения складываются в мордовском крае в период раннего Средневековья. В последующем картина мира мордовского этноса заметно усложняется, дифференцируются ритуалы и обряды, формируя региональную надэтническую целостность Мордовии. Все трансформации мордовского этноса связаны с изменениями его социальных и родственных связей, с процессами интеграции в русскую и мировую культуру.
Социокультурное пространство Мордовии структурируется ментальными моделями самоидентификации субъекта мордовского этноса, в основу которого заложена контрарная полярность (примечательно, что у мордовского этноса ‒ как у эрзи, так и у мокши ‒ доминирует оппозиция «страшное ‒ прекрасное» и т. п.). Такая двойственность, по мнению А. С. Ахиезера, непременно приводит к дезорганизационным процессам, в которых полюса ценностных воззрений стремительно меняются местами, создавая предпосылки к динамической неустойчивости. Разные модальности населения региона потенциально опасны расколом в сообществе. Социокультурная идентичность подобного вида достаточно четко осуществляется в наращивании границ по известной архетипической схеме «мы ‒ они» между различными этническими группами и отчетливо выявляется в пределах региона.
Переход общества от традиционного к современному, часто называемый модернизацией, сопровождается активным поиском соответствия сложившихся представлений требованиям нового времени. В условиях нового существования и взаимодействия регионов возникает потребность как в сохранении, так и в переконструировании идентичности. В результате в сознании субъекта происходит смещение ценностных акцентов. Это может быть идентичность как с российским государством, так и с другими странами. Не исключены и противоположные процессы: ослабление идентификации с Россией в целом и усиление идентичности чУ) Финно–угорский мир. 2015. № 3 с «малой родиной», что и обнаруживается в обособлении российских регионов. Превалирование идентификации региона с этнической социокультурно-территориальной общностью может привести к фрагментации России и, как следствие, к серьезным проблемам. Сложивашаяся ситуация свидетельствует о нарушении социокультурной целостности, единства российского общества.
Навеянные духом времени преобразования коснулись всех уровней социальной структуры Мордовии. Вместе с тем ряд прежних черт и признаков сохраняется неизменным. Новые социокультурные ценности, отношения в регионе не сформировались в достаточной степени, а носят аморфный характер. На процесс самоидентификации региона влияют тесно взаимообусловленные тенденции, протекающие в рамках полюсов дуальной оппозиции «локальное ‒ глобальное», трансформирующие основания бытия этноса. Реальность локальной идентичности зависит от существующих отношений внутри России или региона. Наличие тесных связей с соседними регионами повышает возможность расширения границ идентичности, «холодное» окружение, наоборот, ведет к замыканию в рамках региона. Диалектика глобального и локального конституируется контекстом собственного существования. На неразрывность локального и глобального обращал внимание еще Р. Робертсон [12].
Сказанное подводит к выводу, что частые колебания мировых процессов между локализацией и глобализацией придают социокультурной идентичности этноса высокодинамичные характеристики. Этот факт следует учитывать как при исследовании внешних отношений, так и при анализе внутренних социокультурных процессов, в связи с тем, что механизмы идентичности претворяются в социокультурных реалиях. Мощнейшее влияние на социокультурную идентичность этноса оказывает миграционная ситуация. На протяжении длительного времени Республика Мордовия – один из регионов России, характеризующийся интенсивными неоднозначными миграционными процессами.
Миграционная динамика Республики Мордовия
Миграция представляет собой важный фактор развития общества, результат и предпосылку его изменений, явных или скрытых процессов. Миграционный маятник как неотъемлемый элемент человеческой деятельности сопровождал человека с момента его возникновения, с периода поиска природных ресурсов. Появление земледелия привязывало людей к земле как ресурсу, однако примитивные формы земледелия побуждали к периодически осуществляемым поискам новых земель. Возможность обживать новые земли тормозила переход от экстенсивных форм труда к интенсивным, повышающим эффективность деятельности. Ориентация мордвы на статику была связана со спецификой образа жизни, порождавшего миграционные потоки.
Исторические источники указывают, что на территории современной Мордовии движение населения началось в VI в., постепенно изменяя привычный уклад жизни. С. Лалукка отмечает, что основная масса мордовских племен медленно продвигалась на юг, в направлении Пензы и Саратова, и в итоге переместилась в Поволжье, где проживает до сих пор, тесно контактируя с другими народами [4, 78 ].
Дисперсность расселения мордовского народа и стремление к излюбленному занятию ‒ земледелию ‒ повлияли на его тяготение к поселениям сельского типа. Такие предпочтения наблюдаются довольно длительное время и вызывают наибольший интерес исследователей Мордовии. Переселенческие устремления мордвы не отличались активностью в смене сельского образа жизни, однако развитие в XVII‒ XVIII вв. промышленности, направленной на переработку природных ресурсов все же повлияло на возникновение городских поселений. Объективно говоря, облик городов вплоть до конца XIX в. еще во многом напоминал деревню. Отток мордвы из села в город как в дореволюционный период, так и с 1917 по 1926 гг. не приобрел массовый характер. Более того, в 1917–1922 гг. даже отмечалось уменьшение городского населения. Логика складывания такой ситуации объясняется всеобщей разрухой и голодом, вынуждающими людей переселиться в сельскую местность. Однако этот путь решения проблемы выживания оказался малоэффективным как с экономической, так и с социальной точки зрения. Он содержал в себе ограничение «возможностей иметь возможности», сужая сферы деятельности, фактически подменяя большее меньшим, не решая проблему кардинально.
Воспроизводство экстенсивных форм труда обнаружило необоснованность целей миграции. Активный рост городов в мордовском крае приходится на период индустриализации, формирования Мордовской автономии с соответствующими законодательными правами. Объем миграции (сумма прибытий и убытий) населения Мордовии можно охарактеризовать как волнообразный. Например, в 1940–1950 гг. число прибывших в регион возрастало (32‒43 тыс. чел.), а 1960–1980 гг. отличались миграционной убылью (на 53‒46 тыс. чел.) [3]. С конца 1980-х гг. наблюдается возвратное перемещение в Мордовию русских из республик бывшего СССР. Предоставление официального статуса переселенцам осуществляется с 1992 г. Несмотря на увеличение числа прибывших в республику, сохраняется негативная тенденция миграционного движения, а начиная с 1997 г. в постсоветской Мордовии наблюдается интенсивное возрастание миграционного оттока, что не способствует расширенному воспроизводству населения региона. Сравним статистические показатели 2002 и 2010 гг. По результатам Всероссийской переписи населения 2002 г., всего в Российской Федерации проживает 843 350 чел. мордвы, причем за пределами Республики Мордовия – 559 489 чел., или 66,3 % [8]. Преобладающее число среди 283 861 чел. мордвы, живущих на территории Республики Мордовия, приходится на долю населения, проживающего в сельской местности (село – 158 659 тыс., город – 125 202 тыс. чел.). Примечательно, что в 2002 г. в Республике Мордовия насчитывалось наибольшее количество сельских жителей среди мордовского населения по сравнению с мордвой в других регионах России.
За период с 2002 по 2010 г. численность населения мордовской национальности в Республике Мордовия выросла, что позволяет говорить о такой ценностной ориентации мордовского народа, как предпочтение родной земли. По данным переписи 2010 г., в Российской Федерации насчитывается 744 237 чел. мордвы, в Республике Мордовия проживает 333 112 чел., что составляет 44,8 % [7, 68]. Наиболее многочисленным (53,2 %) в Мордовии является русское население. Доля городской мордвы в общей численности постоянного населения по России составила 379 327 тыс. чел., сельский ‒ 364 910 тыс. чел. На территории Мордовии проживает 180 933 селян и 152 179 горожан мордовской национальности.
Следует отметить, что миграционные процессы в Мордовии носят негативный характер. Несмотря на пополнение населения за счет мигрантов, увеличивших долю мордвы в общей численности населения Мордовии (за 2002–2010 г. с 31,9 до 39,9 %), численность мордовского этноса сокращается [10]. Эта тенденция, становящаяся устойчивой, может реально привести к тому, что репрезентация потенциала коренных этнических групп Мордовии окажется недостаточной для воспроизводства ее социокультурной системы. В контексте заявленной проблематики возрастающую значимость среди многочисленных проблем, привносимых современными масштабными миграционными процессами, приобретает угроза для целостной социоментальной позиции субъекта этнического сообщества.
Социокультурные особенности этнической идентичности
Вовлечение этнических сообществ в динамику коммуникативного пространства по-ликультурного общества дает толчок к осознанию собственного отличия, специфики мышления, служащих индикатором самоидентификации, репрезентирующей социокультурные ориентиры личности. Следует отметить, что сама постановка вопроса об чУ) Финно–угорский мир. 2015. № 3 идентичности этноса закономерно возникает в случае качественных изменений стереотипных представлений повседневности, лежащих в основе механизма идентификации. Эти изменения осуществляются в когнитивной сфере «между» развитием культуры этноса и общества в целом. Ранее нами уже отмечалось, что ориентиром «идентификации является всеобщее изменение мышления исторических субъектов социокультурного процесса. Следовательно, всеобщее в регионе может быть эффективно только тогда, когда оно интегрировано в традиционную форму мышления субъектов регионального социума» [9, 10].
Для Мордовии, как и для большинства субъектов Российской Федерации, характерной чертой является этническая и культурная полифония. Особенности этнической идентичности населения региона отражены в результатах этносоциоло-гических исследований, осуществляемых в 2010-е–2015-е гг. на базе ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва» совместно с филиалом Всероссийского центра изучения общественного мнения по Приволжскому федеральному округу (ВЦИОМ-Поволжье) в Республике Мордовия. В частности, данные проведенного в 2013 г. мониторинга межэтнических отношений в Мордовии показали специфику социокультурной системы региона, обусловленную наличием представителей славянского, финноугорского и тюркского миров, находящихся в непрерывном контакте [6]. Как уже говорилось, титульный этнос – мордва – составляет в республике национальное меньшинство. В состав эрзян входят малочисленные этнографические группы – шок-ша и терюшане, в состав мокшан – кара-таи. Практически все население Мордовии владеет русским языком и в большинстве своем на нем говорит. Языками же основных этнических групп (мокшанским, эрзянским, татарским) владеют в основном представители этих групп. Согласно данным опроса 2013 г., хотя примерно 80 % мордвы говорят на языке своей национальности, около 10 % респондентов называют русский язык родным наряду с языком сво- ей этнической группы. Следовательно, наметилась тенденция к смене родного языка среди нерусского населения.
В таком контексте ярким маркером этнической идентичности выступает язык, детерминирующий этническое самосознание. Обратим внимание на то, что, несмотря на инаковость включенных в интенсивную коммуникативную деятельность субъектов различных этнических сообществ, регион характеризуется стабильной межэтнической толерантностью. Консолидирующую особенность взаимоотношений многонационального населения Мордовии можно объяснить смешением и наложением добрососедских культур. Этот тезис подтверждается многочисленными этносоциальными исследованиями, фиксирующими размытость этнических границ: «личные и социальные контакты строятся в основном “поверх” этнических границ» [2, 74 ].
Не стоит упускать из виду, что в каждом отдельном случае этническое позиционирование довольно специфично и зависит от сочетания многих внешних и внутренних факторов, среди которых самым важным является выбор самого человека. Подвижность исторического контекста влияет на вариативность этнодифференцирующих признаков. Поликультурная ориентация современного мира дополняется многослой-ностью региональных особенностей, характеризующихся интеграцией элементов нескольких культур различных этносов в одну. В результате создается эффект мозаичной идентичности, каждый элемент которой может актуализироваться, усиливаться или ослабляться в любой момент. Неоднородность этнической саморефлек-сии предполагает выработку у представителей этнических групп когнитивной ориентации, задающей модели поведения и определенную динамику социальных взаимоотношений. Например, в Мордовии благодаря тесному взаимодействию различных этнических групп сформировался специфический менталитет, создающий уникальную атмосферу межнационального согласия и добрососедства.
Тем самым в идентичности мордовского этноса усматривается двойственность.
С одной стороны, этническая идентичность мордвы является целостным феноменом, построенным на системе представлений о типичных чертах своей общности, а с другой – неоднородным, многомерным структурным конструктом, подкрепляемым внешними представлениями о мире. Следовательно, идентичность есть непрерывная этнокультурная рефлексия, задающая социокультурную программу коллективных и индивидуальных поступков.
Меняющаяся цивилизованность людей, образующих социокультурную систему ре- гиона, обусловливает смену парадигмы культуры социальных отношений. Общечеловеческое содержание цивилизационного процесса неизбежно возводит гуманизацию общественных отношений в общественную потребность. Под воздействием таких факторов происходит смена содержания социокультурных систем в российских регионах. Человек становится перед выбором: либо поддерживать и укреплять свою этническую идентичность, либо оказаться в роли балласта социокультурной эволюции развивающегося человечества.
Список литературы Социокультурная идентичность российского региона в контексте меняющегося мира (на примере Республики Мордовия)
- Ахиезер, А. С. Россия: критика исторического опыта. Т. 1. От прошлого к будущему/А. С. Ахиезер. -Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997. -808 с.
- Богатова, О. А. Этнические границы в Мордовии: парадокс многоуровневой идентичности//Социологические исследования. -2004. -№ 6. -С. 69-75.
- Козлов, В. И. Расселение//Мордва. Историко-этнографические очерки. -Саранск: Мордовское книжное издательство, 1981. -С. 27-49.
- Лалукка, С. Восточно-финские народы России: анализ этнодемографических процессов/С. Лалукка. -Санкт-Петербург: Европейский Дом, 2007. -392 с.
- Лурье, С. В. Российская империя как этнокультурный//Цивилизации и культуры. Вып. 1. Россия и Восток: цивилизационные отношения. -Москва, 1994. -С. 110-132.
- Межэтнические и конфессиональные отношения в Приволжском федеральном округе: экспертный доклад/под ред. В. А. Тишкова, В. В. Степанова. -Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2013. -118 с.
- Мордовия: Статистический ежегодник/Мордовиястат. -Саранск, 2014. -463 с.
- Национальный состав населения Республики Мордовия//Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. -Саранск, 2005. -С. 58-94.
- Рябова, М. Э. Формирование новых идентичностей: диалектика глобального и регионального//Регионология. -2009. -№ 4. -С. 9-16.
- Социально-экономическое положение Республики Мордовия в январе 2015 года: статистический сборник. -Саранск, 2015. -47 с.
- Фокин, Д. Н. Приволжье. Большая книга по краеведению/Д. Н. Фокин, А. Ю. Сивцов. -Москва: Эксмо, 2012. -240 с.
- Robertson, R. Globalization: Social Theory and Global Culture/R. Robertson. -London: Sage, 1992. -224 р.