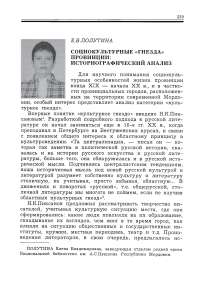Социокультурные "гнезда" провинции: историографический анализ
Автор: Полутина Елена Владимировна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Провинциальная культура
Статья в выпуске: 2 (55), 2006 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен историографический анализ развития одного из направлений исследования социокультурной эволюции российской провинции. В основе анализа лежит понятие «социокультурное гнездо»; представлены его определение и структура.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222939
IDR: 147222939
Текст научной статьи Социокультурные "гнезда" провинции: историографический анализ
Для научного понимания социокультурных особенностей жизни провинции конца XIX — начала XX в., и в частности провинциальных городов, расположенных на территории современной Мордо вии, особый интерес представляет анализ категории «куль турное гнездо».
Впервые понятие «культурное гнездо» введено Н.К.Пик-сановым1. Разработкой подробного подхода к русской литературе он начал заниматься еще в 10-е гг. XX в., когда преподавал в Петербурге на Бестужевских курсах, в связи с появлением общего интереса к областному принципу в культуроведении. «Та централизация, — писал он — которая так заметна в политической русской истории, сказалась и на истории русского искусства и русской литературы, больше того, она обнаружилась и в русской исторической мысли. Подчиняясь централистским тенденциям, наша историческая мысль под новой русской культурой и литературой разумеет собственно культуру и литературу столичную, не учитывая, просто забывая, областную... В движениях и поворотах «русской», т.е. общерусской, столичной литературы мы многого не поймем, если не изучим областных культурных гнезд»2.
Н.К.Пиксанов предложил рассматривать творчество писателей, учитывая культурную ситуацию места, где они сформировались: какие люди повлияли на их образование, складывание их взглядов, чем жил в то время город, как влияли на ситуацию общественные и государственные институты, кружки, местная периодика, театр и т.д. Произведения литераторов, в свою очередь, предлагалось ис-
ПОЛУТИНА Елена Владимировна, заведующая отделом редкой книги Национальной библиотеки им. А.С.Пушкина Республики Мордовия.
пользовать как источник сведений об этой культурной ситуации, как факт культурной жизни.
При работе с фактическим материалом неизбежно должны были возникнуть вопросы о роли среды в формировании личности, механизмах культурного взаимодействия человека и общества, об отношении между провинциальным городом и столицами, куда уезжали питомцы провинциального культурного гнезда и откуда, в свою очередь, приезжали люди, оказавшие влияние на местное культурное развитие. Одновременно город, особенно губернский, был связан с собственной сельской округой — деревнями и усадьбами. По концепции Н.К.Пиксанова, именно в областях есть свой пласт культуры, в частности «литературные гнезда», изучение которых необходимо включить в планы краеведческой работы для последующего использования в описании истории литературы в целом.
Под «культурным гнездом» Н.К.Пиксанов понимал не механическую совокупность культурных явлений и деятелей, а тесное их единение между собой, органическое слияние. В 1928 г. он издал программную работу, где определил основные направления разработки темы, поставил исследовательские задачи и очертил круг источников. По его мнению, «история местного городского театра, местной гимназии, местной публичной библиотеки, рисовальной школы — еще не история местного культурного гнезда. Только сочетание подобных элементов в единении живых деятелей создает культурное гнездо... Другой приметой гнезда являются уже не его строители, но его питомцы... Оно не мыслится и без коллективной деятельности, оставляющей прочные объективные результаты»3. Эта идея была поддержана историками, появились работы, посвященные провинциальным культурным центрам4
Выдвигая исследовательские задачи, Н.К.Пиксанов рекомендовал использовать разнообразный статистический материал, собранный в многочисленных изданиях, посвященных развитию русской культуры. Это касалось анализа состояния просвещения в провинциальных культурных гнездах и было тесно связано с историей местных учебных заведений, библиотек, местной печати, музеев, театров, а также изучением деятельности представителей провинциальной культуры.
Эта концепция нашла последователей не только среди краеведов. Ее поддержал, хотя и с определенными оговорками, идеолог синтетического построения истории русской литературы П.Н.Сакулин: «Вполне принимая идею литературных гнезд, я должен, однако, подчеркнуть, что по отношению к новому периоду областной принцип не может иметь того значения, какое принадлежит ему в древний период. Во-первых, по мере приближения к нашему времени... областной принцип идет на убыль и его значение обратно пропорционально росту культуры. Во-вторых, если областные культурные гнезда отражают на себе местные особенности и, следовательно, могут иметь более или менее самобытные черты, то нельзя забывать и того, что большею частию они представляют преломление общерусской культуры в местных условиях и, стало быть, значение областных гнезд становится уже производным»5
Однако данная точка зрения не учитывает, что литературный мир может быть сложен и по-другому: из областных, местных явлений, как из атомов в целое складывается общерусская литература, транслирующая себя вновь в местную культуру. Ориентация литературоведов только на литературные явления, больше того, только на общерусские литературные явления, не дала им по-настоящему увидеть всю плодотворность идеи Н.К.Пиксанова. Понимание возможностей местной культуры становится более ясным, когда литература оказывается в одном ряду с другими проявлениями духовной жизни провинции.
Именно поэтому идея Н.К.Пиксанова была воспринята и включена в 1926—1928 гг. в программу исторического краеведения известным историком-энциклопедистом И.М.Грев-сом. В фундаментальной статье 1926 г. он сформулировал важность изучения культурных гнезд для исторического изучения явлений духовной культуры в целом в их естественной среде6 Подчеркивая достоинства литературоведческого открытия Н.К.Пиксанова, И.М.Греве писал: «Есть целый ряд местностей (городов), которые были в разные эпохи центром своеобразного литературного цветения. Близкое знакомство с такими фактами поможет обрисовать внутреннюю жизнь не одного края часто совсем новыми красками и глубже понять влияние культурных течений, проникавших в столицы из провинций». При этом
И.М.Греве, расширяя понятие «культурного гнезда», переносит его и на другие сферы духовной культуры: «Следует захватывать в круг этого понятия не одни поэтические и беллетристические произведения, но и журналистику и школьное дело, историю образования на местах вообще и научные начинания... Внимательное и беспристрастное изучение переданного им (культурным гнездом) наследья даст понять, что многое оценивается неправильно, что в нем живут начала, подготовившие новое, и в следах его хранятся блага, еще не использованные...»7
Итак, с точки зрения И.М.Гревса, этот принцип должен быть распространен на исследование всей социально-культурной сферы жизнедеятельности областных гнезд. С этого момента обозначается поворот общественного сознания к местной, локальной культуре, генетической основе русских культурных традиций, ни в коей мере не отменявшей единства русской культуры как целого.
В 1928 г. появляется книга Н.К.Пиксанова, чаще всего и цитируемая в современных исследованиях8, и очередная статья И.М.Гревса9 В связи с постановлением 3-й Всероссийской конференции по краеведению «О необходимости изучения „культурных гнезд“» был составлен набор вопросов местным краеведческим организациям по литературной истории края10 В 1928 г. опубликована статья А.Н.Свободо-ва, в которой автор, подчеркивая свой интерес к деятелям литературы, печати и искусства как составляющим «особый подотдел» культурного гнезда, замечает, что «остальные подотделы... как, например, наука, общественность, просвещение, театр» требуют особого обсуждения «для уточнения их как в смысле построения, так и содержания»11 Автор заявлял о необходимости создания в музеях отделов «культурных гнезд».
К 1928 г. наметилась тенденция изучения областных культур через изучение исторических «культурных гнезд» как первичных ячеек общерусской культуры. И хотя концепт «культурное гнездо» выходит за рамки чисто краеведческих задач, он был связан своим происхождением именно с краеведческой наукой.
В 20-е гг. XX в. исторические и историко-культурные методы в краеведении только еще начинали формироваться и апробироваться. Созданное в эти годы Центральное бюро краеведения при Российской Академии наук печатает ряд статей и докладов, посвященных задачам и методам изучения областной истории. Среди них наиболее значимы работы М.М.Богословского, В.В.Богданова, Н.П.Анциферова и С.В.Бахрушина, способствующие становлению концепта «культурное гнездо» для описания истории культуры провинций12
Эти работы отражают две (в чем-то сближающиеся, но все-таки весьма разные) точки зрения на описание областной истории. Первая из них выражена в работе М.М.Богословского, для которого всякое исследование областной истории, во-первых, «подкрепляет те общие положения, те общие выводы, которые, может быть, уже доказаны, но которые в этих областных исследованиях получают новое и новое подтверждение»; во-вторых, «эти наблюдения над историей отдельных мест, над разного рода местными особенностями, хозяйственными, бытовыми, культурными и другими явлениями, затем ложатся в общее русло изучений исторического процесса в его целом»13 Однако М.М. Богословский обращает внимание только на те явления местной истории, которые вливаются в общерусский исторический процесс, по его собственному замечанию так, как «большая река образуется из соединения отдельных небольших потоков»14.
Эта точка зрения акцентирует внимание на таком принципе изучения историко-культурного процесса в провинции, который фиксирует прежде всего ее связь с метрополией, а местные особенности характеризует как «нюансы», подтверждающие все те же общие закономерности. На наш взгляд, этот метод применим лишь когда трансляция историко-культурных процессов метрополии в провинции не вызывает сомнения, он продуктивен при описании некоторых общеисторических процессов.
Позднее к этой концепции, хотя и значительно откорректировав ее в пользу локальных методов, присоединился С.В.Бахрушин. Опираясь в своих выводах на те же положения, что и М.М.Богословский, он, однако, подчеркнул, что историю нельзя описать только «с птичьего полета»15
Иной акцент проблеме придан в работах В.В.Богданова и Н.П.Анциферова. Они предлагают сделать объектом изучения уровни культурно-исторического процесса, характе- ризующиеся специфическими чертами, присущими именно провинции, заняться «поместным изучением своего прошлого». Все края, провинции России имеют свою локальную историю, не исключая Москвы и Петербурга. Эта история «прочитывается» в местной культуре, быте, населении, районе культурного и экономического тяготения к естественному областному центру. «В ней много страниц должно быть отведено неоднократным остановкам, замедлениям жизни, поворотам к оскудению и угнетению, — писал В.В.Богданов, — но «история не роман» и историк-областник должен обнаружить всю полноту внимания и интереса к этим серым страницам захудалого существования своего областного города»16
Метод локального описания русской истории выводит на такой уровень изучения культурно-исторического процесса, при котором ярко выявляются, во-первых, специфические черты, характерные для всех русских провинций; во-вторых, особые черты, характеризующие конкретную провинцию; в-третьих, черты, присущие изучаемой провинции как центру, к которому тяготеют собственные провинции.
Концепт «культурное гнездо», подкрепленный теоретическими работами, должен был получить более глубокое обоснование, ибо именно он вбирал в себя оба подхода к историко-культурному процессу. Однако этого не произошло. Парадоксально, но книга Н.К.Пиксанова о культурных гнездах оказалась несвоевременной. 1928 г. — год перестройки краеведческой работы. В это время сдвиг в сторону утилитарного краеведения прошел настолько, что даже памятники, оставленные культурой прошлого, требовалось превратить из «мертвого капитала» в одну из производительных сил современности, в культурный капитал строящегося социалистического общества. Все независимые краеведческие исследования были закрыты, а занимавшиеся ими люди отправлены в тюрьмы и ссылки. Возможно, именно поэтому идея культурных гнезд так и не была в полной мере реализована в исследовательской практике.
Академическое краеведение было вытеснено на периферию исследовательского поля. Если в дефинициях 1926 г. еще можно было найти место в краеведении историко-культурной школе, то 1928—1931 гг. зачеркивают все воз- можные пути локальному методу в истории. Показательны в этом отношении понятия краеведения, сформулированные А.П.Пинкевичем в 1926 и 1930 гг. «Краеведение есть метод синтетического научного изучения какой-либо определенной, выделяемой по административным признакам, относительно небольшой территории; изучения, подчиненного жизненно-насущным хозяйственным и культурным нуждам этой территории и имеющего своей основой производительные силы края»17
Упоминание «культурных нужд территории» позволяло даже в тех условиях встраивать в систему краеведения программы культурно-исторических исследований. «Краеведение, — пишет А.П.Пинкевич, — является одним из путей содействия со стороны советской общественности делу социалистической реконструкции СССР на местах, путем всестороннего, синтетического, можно сказать, диалектического изучения относительно небольшого района; изучения, всецело подчиненного задачам диктатуры пролетариата вообще и задачам социалистического строительства в данном районе, в частности»18 А.Большаков вносит поправку и в это определение. Слово «изучение» должно быть изгнано из повседневной деятельности краеведения, не «изучение», а «делание». «Каждый из нас должен подпирать социалистическую стройку собственным плечом»19
В 1931 г., когда в Москве взорвали храм Христа Спасителя, разобрали Казанский собор и были осуществлены другие акты вандализма по всей территории страны, варварски преобразовавших культурно-исторический ландшафт городов, ни о каком изучении «культурных гнезд» не могло быть и речи.
В последние годы сделано чрезвычайно много для изучения истории краев и областей, небольших населенных пунктов и плодотворность «поместного» изучения ни у кого уже не вызывает сомнений. Культурная жизнь провинции является объектом пристального внимания историков-краеведов и культурологов. Однако явления местной культуры рассматриваются преимущественно с позиций регионолис-тики, делающей акцент на историко-юридических и социально-экономических обобщениях.
Не отвергая культивируемого современными историками общеисторического подхода, нами предлагается для описания культурных процессов вернуться к разработанному в 20-х гг. XX в. концепту «культурное гнездо».
В основу концепта «культурное гнездо» следует поставить человека как его создателя, хранителя, питомца и т.д. Психологическое направление в краеведческой культурологии 20-х гг. XX в. придавало большое значение этому фактору изучения культуры провинции. «Исследование местной культуры и есть исследование деятельности местных людей, если не всецело, то в значительной степени, — писал А.А.Мансуров в статье, поднимающей вопрос о значении для русской культуры изучения «местных деятелей и уроженцев». — Они освещают местную культуру, сами светятся ее тонами. Они дополняют и венчают «ландшафт» края. Крепко сросшиеся с краем, хотя не всегда видимо, они наиболее удачные питомцы его, бесконечно ему дорогие.... Они не похожи на других, их никем нельзя подменить...»20
Следующий исследуемый компонент «культурного гнезда» — историко-культурный ландшафт и связанная с ним проблема «города» как высшего проявления культурной деятельности человека. Следует также, по мнению Н.К.Пик-санова и И.М.Гревса, изучить все культурные «явления и движения» в провинции: просвещение, печать, журналистику, театр, искусство, архитектуру, социально-экономические, государственно-правовые аспекты ее жизни и т.д. В своей основе эта программа представляется нам вполне приемлемой, но она учитывает далеко не все необходимые для исследования архитектоники культуры провинции направления и, конечно, требует усилий многих исследователей, которые учли бы, с одной стороны, все рациональные зерна, наработанные исторической наукой за прошедшие 70 с лишним лет, а с другой — новейшие достижения культурной антропологии, социологии провинции и т.д.
Выше отмечалось, что Н.К.Пиксанов, И.М.Греве, поддерживавшие их краеведы и историки, не отрицали, что местная культура является частью общерусской. Однако они подчеркивали, что при взаимной связи провинции и центра общерусская и местная культуры слагаются из локальных культурных явлений, становящихся общерусскими и влияющих на местные культурные процессы. Концепт «культурное гнездо» предлагает лишь иную точку отсчета культурных явлений, вплетающихся в архитектонику общерусской истории культуры.
Изучение культурных процессов через «культурные гнезда» учитывает: общерусский уровень (единые процессы в метрополии и провинции); уровни культурного процесса, характеризующие специфические для всех русских провинций черты; уровень специфический исключительно для культуры изучаемой провинции.
Одна из черт социального диалога малых и крупных городов заключается в делегировании в столицу незаурядных личностей, сформировавшихся в провинции и не способных в этой среде полностью реализоваться. К этой категории горожан из Мордовского края относятся: А.И.Полянский — дворянин, уроженец г.Саранска, в петровские годы — командующий Балтийским флотом; Ф.Мустафин — уроженец Саранска, в 40-е гг. XVIII в. приближенный императорского двора; П.И.Севастьянов — уроженец г.Крас-нослободска, известный коллекционер, собиратель христианских древностей, археолог, организатор археологических экспедиций на Ближний Восток и выставок в Москве, Санкт-Петербурге и Париже; И.К.Макаров — академик живописи, живший и работавший в Санкт-Петербурге; Г.Д.Начаркин — уроженец г.Саранска, из купеческий среды, сделавший карьеру чиновника в Казани и Москве; А.И.Орлов — уроженец г.Инсара, один из основателей русской сейсмологии; уроженцами Краснослободска также были исследователь древнерусской литературы М.А.Викторова и поэт-петрашевец А.И.Пальм.
На наш взгляд, исследование понятия «провинциальная культура», ее места и роли в общероссийских культурных процессах невозможно без учета социокультурной ситуации в провинциальных городах конца XIX — начала XX в. и изучения объективных характеристик субъекта провинциальной культуры. Население провинциального города выступало носителем особого типа культуры, сочетающего элементы столичной (в провинции поселялись выходцы из столиц сезонно или в определенные периоды) и самобыт- ной народной культуры, обусловленной спецификой повседневного бытия провинциального социума.
Культура провинциального города была органически включена в повседневное бытие местного сообщества, ее носителями выступали представители различных слоев населения, отличающиеся подвижничеством и духовностью. В связи с этим для исследования конкретных явлений культурной жизни провинциальных городов продуктивным представляется использование понятия «социокультурные гнезда» — общественные межсословные объединения, деятельность которых была направлена на формирование культурного облика и образа жизни провинциальных городов в пореформенное время.
Развитию социокультурных гнезд способствовали реформы 60-х гг. XIX в., когда возросшие социокультурные потребности населения провинциальных городов в силу объективных причин могли быть удовлетворены только при объединении усилий губернских и уездных органов власти, земств, церкви, просвещенного купечества и отдельных граждан-подвижников, благотворителей и меценатов. Формой интеграции усилий общественности выступали социокультурные гнезда, деятельность которых носила преимущественно благотворительный, межсословный (рассчитанный на массовые слои населения) и постоянный (а не эпизодический) характер, осуществлялась людьми, постоянно проживавшими в провинции и опиравшимися на местные социокультурные традиции и установки.
По нашему мнению, одним из важных направлений изучения провинциальных социокультурных гнезд должна стать работа по аккумулированию разнообразных сведений о них.
Известно, что областные и республиканские библиотеки России, как правило, ведут библиографические указатели о своем крае. Это необходимая работа для всякого исследования явлений местной истории, литературы и культуры. Однако при всей важности и незаменимости краевой библиографии, совершенно очевидна недостаточность этой работы для воссоздания социокультурных процессов в русской провинции. Важно иметь представление о людях, личностях, которые были движителями этих социокультурных процессов в провинциальных городах; необходим все- сторонний анализ их деятельности в социальной и куль турной сферах.
Список литературы Социокультурные "гнезда" провинции: историографический анализ
- Пиксанов Н.К. Два века русской литературы. М., 1923.
- Он же. Три эпохи: Екатерининская, Александровская, Николаевская. СПб., 1913.
- Он же. Областные культурные гнезда. Историко-краеведный семинар. М.; Л., 1928.
- Свободов А.Н. В Нижнем Новгороде на заре XX века. К характеристике культурного и литературного гнезда // Нижегородский краеведческий сборник. Нижний Новгород. 1925. Т. 1
- Пиксанов Н.К. Воронеж как культурный центр / БСЭ. Т. 13. 1929. С. 148.