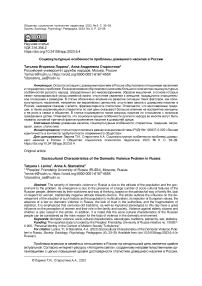Социокультурные особенности проблемы домашнего насилия в России
Автор: Ларина Татьяна Игоревна, Старостина Анна Андреевна
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 6, 2023 года.
Бесплатный доступ
Острота ситуации с домашним насилием в России обусловлена отношением населения и государства к проблеме. Ее возникновение обусловлено наличием большого количества социокультурных особенностей русского народа, определенных его мировоззрением, образом мышления, в основе которых лежит патриархальный уклад семейной жизни, отсутствие уважения к женщине, традиционно отрицательное отношение к разводам. В статье обозначено влияние на развитие ситуации таких факторов, как поликультурность населения, неприятие им европейских ценностей, отсутствие закона о домашнем насилии в России, недоверие граждан к власти, фрагментарность статистики. Отмечается, что многовековые традиции, а также укоренившиеся стереотипы по сей день оказывают большое влияние на восприятие женщины и ее роли в семье и обществе. В статье поднимаются также вопросы насилия по отношению к пожилым гражданам и детям. Отмечается, что социокультурные особенности русского народа во многом могут быть названы основной причиной фактов проявления насилия в домашней среде.
Домашнее насилие, социокультурные особенности, стереотипы, традиции, патриархат, закон, статистика
Короткий адрес: https://sciup.org/149143018
IDR: 149143018 | УДК: 316.356.2 | DOI: 10.24158/spp.2023.6.4
Текст научной статьи Социокультурные особенности проблемы домашнего насилия в России
,
в период с 2011 по 2019 гг. доля женщин, погибших в результате домашнего насилия, составила 65,8 %, при этом 53 % пострадавших стали жертвами партнера, 13 % – родственника. В 2020– 2021 гг. данный показатель вырос на 6 % и составил 71,7 %: 66 % женщин были убиты партнером, 5 % – родственником1. Исходя из этого, мы можем заключить, что актуализация проблемы состоит не только в постепенно возрастающем проценте пострадавших женщин в ходе внутрисемейных конфликтов, но и в тенденции повышения уровня деспотизма со стороны партнера.
Домашнее насилие над женщиной основывается на множестве социокультурных особенностей русского народа, которые определяют мужскую и женскую модели поведения, вступающие в диалог и конфронтацию. Первая из них заключается в культе силы и безжалостности, вторая в ненасилии, сострадании и терпимости.
В 1970-е гг. С. Браумиллер, американская писательница, журналистка, выдвинула феминистскую гипотезу об истоках происхождения насилия над женщиной, сведя данный феномен к особенностям гендерной психологии (Brownmiller, 1976). Однако, согласно теории социального научения (Бандура, 2000), именно ближайшее окружение оказывает влияние на формирование в мужчине склонности к насилию, а не врожденные особенности.
М. Кауфман, американский социолог, статистик, заявляет, что нет объективных причин говорить о гендерной склонности к агрессии. По его мнению, насильственная модель поведения со стороны мужчин закладывается с детства их окружением (Kaufman, 1987). Первым этапом формирования агрессивной модели является насилие над собой (запрет мальчикам выражать свои эмоции, плакать), вторым – отношение к женщине (подростковая агрессия), третьим – угроза обществу в целом (Лактионова, 2010: 146).
М. Киммель, американский социолог, эксперт в области гендерных исследований, сочетая интерактивный подход и теорию социального научения, утверждает, что мужское насилие по отношению к женщине стало результатом социализации, в ходе которой приемлемость агрессивной формы коммуникации признается одним из столпов становления личности мужчины (Kimmel, 2000). По этой причине, на наш взгляд, необходимо рассмотреть ряд социокультурных особенностей, играющих одну из ключевых ролей в формировании российской модели поведения мужчин и женщин в контексте семейных отношений
Главной из них является образ мышления. В качестве одного из основных аспектов данной особенности выступает патриархальный уклад семейной жизни. Традиционные представления об устройстве семьи и утверждении всевластия домовладыки были подкреплены религиозно-нравственными ценностями и нашли отражение в «Домострое»2 – «некоем уставе о мирском строении: о том, как жить православным христианам в миру с женами, детьми и с домочадцами, как научать их и поучать, и страхом спасать и запрещать строго» (Иеринг, 1981: 244). Согласно тексту данного документа, использование «благих» телесных наказаний оставлялось на усмотрение мужчины, при этом они не должны были приводить к серьезным увечьям или летальному исходу жертвы. В противном случае главу семейства судили по статье о неосторожном убийстве, где наказанием выступало церковное покаяние и всего лишь годичное тюремное заключение. Именно «Домострой» в XVI веке являлся инструментом легализации агрессии, направленной на женщин, который декларировал насилие в качестве основы семейного уклада и мер контроля над домочадцами.
Также в «Домострое» содержались не только идеологические предписания, но и конкретные практические советы (Иеринг, 1981: 300). Согласно документу, провинившихся не следовало поучать твердыми инструментами, т.к. «многие беды от того случаются: слепота и глухота ... наступают головная боль и боль зубная, а у беременных женщин и дети в утробе поврежда-ются»3. Вместо этого следует воспользоваться плетью (Пащенко, 2009): «плетью же, наказывая, осторожно бить, и разумно, и больно, и страшно и здорово»4.
И.Т. Тарасов убежден в том, что основой проблемы домашнего насилия в России является отсутствие уважения к женщине5. Помимо семейных ценностей, которые зиждутся на религиозно-этических предпочтениях, не обладающие юридической силой, насилие над женщиной также подкрепляется ее полным политическим бесправием, которое долгое время считалось не только социальной нормой, но и природной особенностью женщин. Так, даже в проекте конституции Н.М. Муравьева6 – программном документе Северного общества декабристов – женщина трактуется как неразумное существо без всякого рода политических прав. Несмотря на то, что данный проект гарантировал допуск зрителей на судебные заседания, в нем отмечалось, что «женщинам и несовершеннолетним всегда возбраняется вход в Палаты»1.
В XIX в. и начале XX в. государство пыталось решить проблему с неравным положением женщины и мужчины в российском обществе (Лаптева, 2017: 97), но в «Своде законов Российской империи»2 все еще оставалось положение: «Жена обязана повиноваться мужу своему как главе семейства, пребывать к нему в любви, почтении и в неограниченном послушании, оказывать ему всякое угождение и привязанность как хозяйка дома»3. Несмотря на него, старые установки из «Домостроя»4 о поучении мужчиной всех членов семьи были отвергнуты. С 1845 до 1917 гг. российское «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных»5 стало первым законом в Европе, запрещающим применение физической силы в отношении всех членов семьи. Во время судебного разбирательства по делу о насилии факт родственных связей жертвы и обидчика стал отягчающим обстоятельством, что повышало степень наказания на две ступени.
В советский период была осуществлена попытка изменения места женщины в обществе путем закрепления равенства полов в Конституции6. Несмотря на формальные изменения, фактическое положение женщин не изменилось. «За женщиною не только отрицается человеческое достоинство, но она рассматривается как постельная принадлежность» (Плетников, 1935: 30).
Следующим аспектом, формирующим образ мышления русского народа выступает религия. По сей день большинство конфессий транслируют образ мужчины как главы семейства, который должен осуществлять власть и волю над женщиной. Как правило, верующие женщины оказываются гораздо более терпимыми к бытовому насилию и, как следствие, практически не подают на развод. Более того, религия убеждает их в том, что совершенное мужчиной насилие является ответственностью женщины, так как она не справилась с традиционной моделью поведения жены.
Продолжением предыдущей социокультурной особенности является четвертый фактор, формирующий образ мышления русского народа, – отношение к разводам. Консервативные традиции и религиозные соображения глубоко укоренились не только среди населения, но и в органах власти. Именно по этой причине в России вопрос бракоразводного процесса не поднимался крайне долго, а сохранение традиционных семейных ценностей является актуальной повесткой и по сей день.
Стоит отметить, что вышеупомянутое «Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-ных»7 плохо работало в крестьянской среде, где большинство семейных вопросов решали волостные суды. Они иногда отказывались от разбирательства самых очевидных дел, руководствуясь тем патриархальным принципом, что «муж считается старшим над женой и детьми и имеет право их наказывать» и что «муж даром бить свою жену не станет, а если бьет, – значит, она того стоит» (Лаптева, 2017).
В XVIII–XIX вв. получить развод по инициативе женщины было невозможно. Основанием для бракоразводного процесса могли стать: а) смерть мужа или его пропажа сроком от 5–10 лет; б) уход в монастырь; в) измена; г) физическая патология. Однако и здесь равноправие полов отсутствовало (Пащенко, 2009). При разводе по делу об измене суд следовал своду правил Василия Великого (330–379 гг.): «Сблудивший не отлучается от сожительства с женою своею, и жена должна приняти мужа своего… но муж оскверненную жену изгоняет из дома»8.
Важно отметить, что жесткое обращение в число оснований для бракоразводного процесса не входило, поэтому в конце XIX в. во время переписи населения была зафиксирована «масса случаев побегов жен как единственного с их стороны способа протеста против деспотизма мужей» (Красноперов, 1893: 279).
Советское общество оказалось более лояльно к разводам. Однако на тот момент классификация домашнего насилия не была произведена, поэтому под насильственными деяниями понималось только физическое воздействие на жертву.
Подробно рассмотрев ключевые аспекты формирования образа мышления русского народа к проблеме домашнего насилия, мы можем заключить, что именно они стали основой образования стереотипных установок в вопросах семейного уклада, оправдывающих домашнюю тиранию: «Бей бабу молотом – будет баба золотом», «Бьет – значит любит».
В качестве второй социокультурной особенности выступает отношение к домашнему насилию над представителями старшего поколения. До сих пор не оно получило широкой огласки и не является предметом пристального изучения в научном сообществе. На наш взгляд, это обусловлено историческим фактором, подразумевающим устранение немощных и больных членов общества во время бедствий и голода. Данный факт стал основой формирования пренебрежительного отношения к старикам, вследствие чего бытовое насилие над ними не воспринимается всерьез. Согласно результатам исследования, на территории Российской Федерации в 2017 г. 15,7 % пожилых людей оказались подвержены домашнему насилию1. Самым распространенным способом угнетения пожилых является психологическое насилие – 11,6 %, на втором месте стоят финансовые злоупотребления – 6,8 %. Важно отметить, что под определение экономического насилия в данном случае попадает не только изъятие, контроль пенсионных накоплений и прочие противоправные действия, касающиеся финансов, но и чрезмерная эксплуатация, подразумевающая уход за внуками2.
В качестве третьей социокультурной особенности выступает отношение к домашнему насилию над детьми. В большинстве российских семей закрепились стереотипные установки, закрепляющие неверные модели взаимодействия между родителями и ребенком: «Младший старшего не учит», «Мы родители, как хотим, так и воспитываем». В первую очередь это обусловлено отсутствием знаний об основах взаимодействия с ребенком, его воспитания, а также способах гуманного наказания. Помимо этого, весомую роль играет низкая правовая культура населения, незнание законодательной базы, защищающей права ребенка, а также регламентирующей меры наказания за осуществление насильственных действий в отношении детей (Саламова, 2018: 134).
Четвертой особенностью является поликультурность. На территории нашей страны насчитывается 24 республики, а также множество национальностей со специфическими культурными особенностями. Например, в традиционных кавказских обществах семейные ценности и традиции имеют гораздо более высокий приоритет в сравнении с укладом жизни в крупных городах других субъектов федерации. Неформальные правила и традиции, стоящие выше закона, в значительной степени затрудняют изучение и урегулирование внутрисемейных конфликтов внешними органами.
Пятой социокультурной особенностью выступает неприятие европейских ценностей. Развитие культурной и социальной составляющей российского общества невозможно отрицать. Однако важно отметить, что трансформация происходит в рамках традиционных установок, закрепившихся глубоко в сознании населения. Яркими примерами европейских ценностей, идущих вразрез с образом мышления российского общества являются такие движения, как феминизм, ЛГБТК+, меры предотвращения проблемы домашнего насилия и многие другие.
Шестой особенностью является отсутствие закона о домашнем насилии. Уже в 1999 г. вопрос о принятии закона о домашнем насилии по инициативе Комитета по делам женщин, семьи и молодежи поднимался в Государственной Думе РФ3. Однако данная инициатива была отклонена на основании следующих факторов: а) большинство депутатов (в том числе и женщин) отдали голос за сохранение традиционных ценностей и уклада в семье; б) Генеральная прокуратура и Верховный суд аргументировали отказ нежеланием загружать органы полиции многочисленными делами; в) финансирование по реализации нового закона и сопутствующих расходов на построение государственных территориальных центров помощи семье и детям, приютов и кризисных центров, по мнению чиновников, оказалось слишком дорогостоящим4.
Более того, в 2017 г. произошла декриминализация домашнего насилия. Государственная дума одобрила законопроект, согласно которому первый случай побоев, зафиксированных со стороны домочадца переведен из разряда уголовных в административные наказания5. Рецидивисты и лица, нанесшие домочадцам серьезные физические увечья, будут осуждены по уголовной статье. Важно отметить, что в число серьезных травм не входят психологическое и экономическое насилие. На данный момент существует небольшая попытка криминализации домашних побоев с помощью статьи 110 УК РФ «Доведение до самоубийства»6. Однако для работы данного закона необходимо, чтобы самоубийство жертвы уже случилось, а также согласно пунктам 110.1
и 110.2 это лишь косвенно имеет отношение к домашнему насилию и трудно доказуемо (Муха-нова, 2017: 146).
В Российской Федерации законопроекты по делам домашнего насилия выносились на рассмотрение около пятидесяти раз (Редичева, 2021: 206). Однако же на сегодняшний день в России закон о домашнем насилии все еще отсутствует. По этой причине рассмотрение дел по данному вопросу производится в рамках общих уголовных и административных статей. Статья 117 УК РФ1 об «истязании» жертвы регламентирует наказание только за два вида насилия: физическое и психологическое. Важно учитывать тот факт, что для обоснования данных неправомерных действий со стороны тирана женщина обязана привести неоспоримые факты, свидетельствующие о факте совершения насилия, а также доказательства его цикличности. Однако в самой статье отсутствует формулировка, обозначающая конкретное число насильственных действий для определения их в качестве домашнего насилия.
В качестве седьмой социокультурной особенности отметим недоверие к власти. Российское общество в сенситивных тематиках практически не доверят власти. На примере домашнего насилия мы видим, что жертвы крайне редко обращаются в полицию ввиду отсутствия четкой законодательной базы, а также прочно укоренившихся стереотипов о месте женщины и семейных отношениях на всех уровнях правовой системы. Данный социокультурный фактор стал катализатором к повышению степени латентности проблемы среди населения. Около трети россиян знакомы с семьями, в которых совершаются противоправные действия над ее членами, и только 10 % смогли признаться, что в их доме было совершено домашнее насилие2.
На сегодняшний день мы не можем определить реальную картину домашнего насилия в России, т.к. официальная статистика по данному вопросу очень фрагментарна и сильно устарела, а целостная система мониторинга проблемы, отражающая действительные данные, вовсе отсутствует. С.Я. Саламова, анализируя официальную статистику МВД РФ, отмечает, что в ней содержатся лишь частичные сведения о насилии над женщинами: 62,5 % лиц женского пола подвергались насилию в собственной квартире, 73,2 % – стали жертвами агрессии со стороны членов семьи, 91,1 % из них – со стороны супруга (Саламова, 2018: 132).
Если говорить о крайней форме проявления домашнего насилия – убийстве, то важно отметить, что официальная статистика МВД не дает никаких сведений о количестве убитых женщин от рук партнера. Также любая информация из этой области недоступна обычным гражданам. Получить ее можно исключительно по официальному запросу в ведомство, что в значительной степени снижает возможность изучения реальной статистики проблемы.
При анализе найденных во вторичных источниках данных необходимо принимать во внимание следующие обстоятельства: а) вся статистика МВД, связанная с домашним насилием, основывается на зарегистрированном родстве (муж/жена), что приводит к исключению попадания в официальные данные случаев проявления агрессии со стороны партнера, сожителя; б) учитываются только те случаи, по которым вынесен обвинительный приговор, а в ситуации с оправдательным вердиктом или закрытием дела по иным причинам данные о насилии игнорируются; в) жертвы очень часто не обращаются в правоохранительные органы (только в 3 % случаев дело доходит до суда и оказывается в официальной статистике) (Саламова, 2018: 132).
В свете интересующей нас проблемы следует сказать, что ситуацию несколько проясняют результаты социальных опросов. Однако важно понимать, что они не могут быть единственным источником репрезентативных данных, так как отражают лишь частичный опыт населения, а также уровень восприятия гражданами изучаемой нами проблемы, но не объективную сторону вопроса.
Рассмотренные нами социокультурные особенности позволяют нам сделать вывод о том, что нынешнее отношение россиян к проблеме домашнего насилия коренится не только в современной социальной организации общества, но и в глубоко устоявшихся культурных особенностях русского народа. Детальное изучение данного аспекта может стать катализатором для устранения стереотипного мышления в данном вопросе на всех уровнях общества и, как следствие, привести к новым попыткам разрешения проблемы.
Список литературы Социокультурные особенности проблемы домашнего насилия в России
- Бандура А. Теория социального научения. СПб., 2000. 318 с.
- Иеринг Р. Право и цель. СПб., 1981. 412 с.
- Красноперов И.М. Крестьянские женщины перед волостным судом // Сборник правоведения и общественных знаний. Труды юридического общества, состоящего при императорском Московском университете : в 8 т. СПб., 1893. Т. 1. С. 268-289.
- Лактионова М.А. Гендерное насилие как социокультурный феномен: к постановке проблемы // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2010. № 4. С. 142-150.
- Лаптева Л.Е. Домашнее насилие: сила традиции // Genesis: исторические исследования. 2017. № 9. С. 92-106.
- Муханова Е.Д. Насилие в семье: проблема социальная и правовая // Наука. Мысль : электронный периодический журнал. 2017. № 4. С. 144-149.
- Пащенко А.С. История зарождения общественных взглядов на вопросы домашнего насилия в России // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2009. № 4 (11). С. 196-203.
- Плетников К. На защиту женщины от издевательства // Социалистическая законность. 1935. № 11. С. 29-30.
- Редичева А.А. Домашнее насилие в России // Наука XXI века: актуальные направления развития. 2021. № 1-1. С. 204-207. https://doi.org/10.46554/ScienceXXI-2021.02-1.1-pp.204.
- Саламова С.Я. Домашнее насилие в современной России: общая характеристика // Lex Russica (Русский Закон). 2018. № 9 (142). С. 129-138. https://doi.Org/10.17803/1729-5920.2018.142.9.129-138.
- Brownmiller S. Against Our Will. Men, Women and Rape. N. Y., 1976. 541 р.
- Kaufman M. Beyond Patriarchy Essays by Men on Pleasure, Power, and Change. N. Y., 1987. 322 р. Kimmel М. The Gendered Society. N. Y., 2000. 460 р.