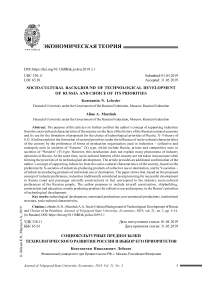Социокультурные предпосылки технологического развития России и выбор его приоритетов
Автор: Лебедев Константин Николаевич, Марчук Алина Александровна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu
Рубрика: Экономическая теория
Статья в выпуске: 3 т.21, 2019 года.
Бесплатный доступ
Целью данной статьи является дополнительное подтверждение на фактах российской экономической истории авторской концепции поддержки отраслей со стороны социокультурных характеристик страны и ее использование для формирования предложений по выбору технологических приоритетов развития России. Х-Y-теория С.Г. Кирдиной объясняет формирование соответствующих отраслевых приоритетов предпочтением тех или форм организации производства - коллективной и монопольной в обществах «восточного» типа (Х-обществах), к которым относится Россия, и частной и конкурентной в обществах «западного» типа (Y-обществах). Однако данный механизм не объясняет многих явлений отраслевой динамики в России. При этом социокультурные особенности страны не учитываются при формировании приоритетов ее технологического развития. В статье дано дополнительное историческое подтверждение авторской концепции социокультурной поддержки отраслей, основанной на предпочтении Х-обществами отраслей, выпускающих продукты коллективного пользования или назначения, а Y-обществами - индивидуального. Показано, что, исходя из предлагаемой концепции отраслевых предпочтений, отрасли, традиционно рассматриваемые как бесперспективные для успешного развития в России, в действительности соответствуют социокультурным отраслевым предпочтениям российского народа. Сформулированы предложения по включению в состав приоритетов технологического развития страны ряда отраслей, в основном выпускающих продукты коллективного пользования и назначения.
Технологическое развитие, коммунальные производства, некоммунальные производства, институциональная структура, социокультурные характеристики
Короткий адрес: https://sciup.org/149130097
IDR: 149130097 | УДК: 330.11 | DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2019.3.1
Текст научной статьи Социокультурные предпосылки технологического развития России и выбор его приоритетов
DOI:
Citation. Lebedev K.N., Marchuk A.A. Socio-Cultural Background of Technological Development of Russia and Choice of Its Priorities. Journal of Volgograd State University. Economics, 2019, vol. 21, no. 3, pp. 5-14. (in Russian). DOI:
История российского народного хозяйства показывает, что, при прочих равных экономических и политических условиях, наша страна демонстрирует устойчивую успешность в развитии одних технологий или производств и, наоборот, неуспешность в развитии других. Это проявляется прежде всего в том, что при приблизительно одинаковом внимании и поддержке со стороны государства одни производства, даже если они до этого по каким-то причинам оказались разрушенными, быстро восстанавливаются и демонстрируют бурный количественный и качественный рост, а другие производства в лучшем случае показывают лишь временные успехи, после которых быстро стагнируют. Это также проявляется в том, что некоторые производства выступают драйверами социально-экономического развития, подтягивая под свой уровень смежные, а другие, наоборот, выступают в роли подтягиваемых. Все это побуждает предположить существование в стране социокультурных отраслевых предпочтений.
Очевидно, что успешность и неуспеш-ность развития тех или иных видов деятель- ности в стране в зависимости от социокультурных характеристик ее народа требуют объяснения и учета при формировании приоритетов ее технологического развития. Одной из наиболее известных теорий, объясняющих отраслевые предпочтения технологического развития России социокультурными характеристиками страны, является X–Y-теория С.Г. Кирдиной. Однако, как будет показано ниже, она не объясняет многих явлений технологической динамики России, что потребовало выделения альтернативного механизма влияния социокультурного фактора на отраслевые предпочтения, состоящего в его влиянии на успешность и неуспешность развития отраслей не через формы организации производства (коллективная – частная, монопольная – конкурентная), а через характер выпускаемых продуктов (коллективного – индивидуального пользования или назначения). Несмотря на наличие соответствующих предпочтений, социокультурные особенности российского народа не учитываются при формировании технологических приоритетов развития страны. Целью настоящей статьи является дополнительное обоснование авторского механизма поддержки отраслей со стороны со- циокультурных особенностей России и использование соответствующей концепции отраслевых предпочтений для формирования предложении в отношении выбора приоритетов ее отраслевого развития.
Методика
Примеры успешности и неуспешности развития различных технологий в изобилии представлены в истории технико-экономического развития нашей страны.
У истоков создания общепромышленного парового двигателя, то есть двигателя, способного приводить в движение разнообразные рабочие машины, стоял наш соотечественник И.И. Ползунов. В 1766 г. по его проекту был создан первый паровой двигатель непрерывного действия – двухцилиндровая пароатмосферная машина, служившая для привода рукояток воздуходувных мехов, нагнетавших воздух в плавильные печи. До этого в промышленности использовались одноцилиндровые пароатмосферные машины Т. Севери и Т. Ньюкомена, способные приводить в движение лишь насосы для откачки воды [Алтайский край ... , 2012, с. 50]. Дж. Уатт создал свой паровой двигатель непрерывного действия с одним цилиндром двойного действия в 1768 г., но фабричное производство паровых двигателей было освоено в Англии в 1776 году. Да и следующее крупное усовершенствование парового двигателя, связанное с его превращением из двигателя с возвратно-поступательным движением поршня в двигатель с вращательным движением вала, прошло без участия России: такой двигатель был изобретен тем же Дж. Уаттом в 1782 г. [Гумилевский, 1960].
Попытки наладить серийное производство паровых двигателей в России стали предприниматься лишь с начала 1790-х гг.: первоначально, благодаря усилиям приглашенных иностранцев, выпускались двигатели «уаттов-ского» типа, так как они хорошо знали эти двигатели. Так, в 1791 г. под руководством шотландца Ч. Гаскойна выпуск соответствующих паровых двигателей начался на Александровском заводе в Петрозаводске, в 1799 г. под руководством англичанина И. Гилля начался выпуск паровых двигателей на Урале. Известно, что производством паровых двигателей занимались механико-литейный завод К. Берда на Галерном острове в Санкт-Петербурге, где в период 1804–1825 гг. было выпущено 130 паровых двигателей для заводов и 10 паровых двигателей для пароходов, Выксунский завод Шепелева, уральские заводы Демидова (с 1824 г.) – под руководством Е. Черепанова [Тараканова, 2004, c. 180–184]. Тем не менее выпуск собственных паровых двигателей в Российской империи в соответствующие годы был весьма незначительным по отношению к растущему спросу, удовлетворявшемуся в основном за счет импорта [Волынец, 2015]. В начале же 40-х гг. XIX в. их выпуск вообще прекратился, что объясняется снятием запрета на экспорт в Россию уаттовских двигателей из Великобритании. В последующие десятилетия производство собственных паровых двигателей также было крайне незначительным и спрос на паровые двигатели удовлетворялся в подавляющей массе за счет импорта теперь уже безбалансирных машин, сменивших в середине XIX в. машины Уатта и закупавшихся уже не только в Англии, но и в Германии и Бельгии. Причиной такой ситуации является в первую очередь то, что в России так и не научились делать качественные и дешевые паровые двигатели – они были тяжелы и громоздки и отличались высокой ценой [Тараканова, 2004, c. 184–185]. Ситуация мало изменилась и после того, когда Императорское русское техническое общество, созданное в 1866 г. прежде всего для содействия возрождению отечественного производства паровых двигателей, добилось введения в конце 60-х гг. XIX в. таможенных пошлин на машины и механизмы, ввозимые из-за рубежа [Волынец, 2015]. Таким образом, Россия была, мягко говоря, неуспешна в развитии собственного производства универсальных паровых двигателей вплоть до окончания эпохи пара.
Похожей была ситуация и с развитием в стране собственного производства электродвигателей. Первый реальный электродвигатель, а именно электродвигатель с вращающимся валом, был создан в России в мае 1834 г. ученым Б.С. Якоби. До этого существовали лишь электродвигатели с качатель-ным или возвратно-поступательным движением якоря. В России было осуществлено и пер- вое практическое применение электродвигателя: в 1839 г. тот же Б.С. Якоби соорудил лодку, приводящуюся в движение электродвигателем, питавшимся от гальванической батареи, которая шла по Неве против течения, имея на борту 14 пассажиров. На Западе первый такой электродвигатель был создан американцем Т. Дэвенпортом в июле 1834 г., а его практическое использование осуществлено в 1837 г. шотландцем Р. Дэвидсоном, создавшим в 1842 г. токарный станок и транспортное средство (фактически – первый электровоз) с приводом от электродвигателя. Но при этом, в отличие от России, на Западе быстро налаживается производство общепромышленных электродвигателей, которые стали широко использоваться в различных отраслях промышленности с 1870-х гг. [Гумилевский, 1960].
К дальнейшим революционным изменениям в конструкции электродвигателя также были причастны россияне. Первыми электродвигателями были двигатели постоянного тока, сложные по конструкции и, соответственно, в эксплуатации [Гумилевский, 1960], поэтому велись опыты по созданию двигателей переменного тока. В конце 1880-х гг. итальянец Г. Феррарис и американец Н. Тесла создали двухфазные асинхронные двигатели переменного тока, но эти двигатели оказались малопригодными для практического применения. Действительный же успех в создании двигателя переменного тока принадлежит М.О. Доливо-Добровольскому, которому в 1889 г. удалось создать надежный и простой трехфазный асинхронный двигатель переменного тока. Однако он был создан россиянином тогда, когда он работал в Германии и на германском предприятии. В 1891 г. на Международной электротехнической выставке во Франкфурте-на-Майне было продемонстрировано практическое использование этого электродвигателя – он обслуживал декоративный десятиметровый водопад [Гумилевский, 1960]. К концу XIX в. асинхронные двигатели переменного тока уже в больших количествах выпускались в разных странах, но только не в России, где их собственное производство было налажено только во времена СССР: соответствующая отрасль была вытянута из небытия в нашей стране сталинской индустриализацией 1928–1941 годов.
При этом были производства, развивавшиеся в нашей стране весьма успешно. В качестве примера можно привести строительство железных дорог общего пользования (не внутри предприятий) на паровозной тяге. Первая такая дорога Манчестер – Ливерпуль была построена в Англии 1830 г. [Сотников, 1993, с. 15], а уже в 1836–1837 гг. в нашей стране строилась Царскосельская железная дорога, соединившая Санкт-Петербург с Царским Селом [Мокршицкий, 1941, с. 231–232]. При этом бум железнодорожного строительства начался в России в середине 1860-х гг. – на 15–20 лет позже, чем в развитых европейских странах. Однако в 1900 г. Российская империя стала лидером по протяженности железнодорожной сети в Европе, составившей 53 044 км. В Германии протяженность железных дорог в этом году составила 51 398 км, во Франции – 42 827 км, в Великобритании – 35 186 км [Мокршицкий, 1941, с. 240; Сотников, 1993, с. 16–19].
Такой же успешной Россия была в производстве паровозов для железных дорог общего пользования. Можно сказать, что производство собственных паровозов шло за строительством железных дорог, хотя и здесь были попытки заместить свое производство импортом. Так, паровозы для Царскосельской железной дороги в 1837 г. были заказаны в Великобритании у Дж. Стефенсона [Мокршиц-кий, 1941, с. 13], но в 1846 г. приступил к производству паровозов Александровский чугунолитейный завод в Санкт-Петербурге для строящейся железной дороги Санкт-Петербург – Москва первоначально на основе зарубежных образцов, а с 1858 г. – по собственным проектам. В середине 1860-х гг. отрасль была «убита» импортом, но в конце десятилетия она возрождается на фоне недавно начавшегося бума строительства железных дорог и претерпевает бурный рост. В 1868 г. к производству паровозов приступают Люди-новский завод Мальцева, Невский завод Семянникова и Полетики в Санкт-Петербурге, казенный Камско-Воткинский завод, в 1869 г. – Коломенский завод братьев Струве. Уже в 1870 г. годовой выпуск паровозов составил 40 шт. в год, в 1880 г. – 240 штук. В 1892 г. к производству паровозов приступил Брянский завод, в 1894 г. – Путиловский завод в Санкт-
Петербурге, в 1897 г. – специализированный Харьковский паровозостроительный завод, в 1898 г. – Сормовский завод, в 1900 г. – специализированный Луганский завод [Мокршицкий, 1941]. На пике производства в период 1900– 1906 гг. в России производилось 900–1300 паровозов в год [Ильинский, 1929, с. 88–89].
Важно отметить, что успешность тех или иных производств в России проявляется не только в их количественном, но и в качественном развитии, выступающем второй стороной технологического развития. Тот же бум строительства паровозов у нас сопровождался их многочисленными усовершенствованиями. Россия первой начала строить паровозы с передней тележкой (это обеспечивало большую безопасность движения поездов), использовать сочлененные паровозы, первой применила такие новшества, как пароперегреватели, конденсация пара, двукратное расширение пара, первой стала использовать в паровозостроении принцип унификации деталей и узлов, создала науку о тяге поездов [Мокршиц-кий, 1941; Сотников, 1993].
В соответствии с теорией X–Y-матриц С.Г. Кирдиной успешность или неуспешность развития тех или иных производств в России объясняется доминированием в ней институциональной Х-матрицы и соответствием ее доминированию институциональных форм (собственно институтов). Х-матрица представляет собор устойчивый набор социокультурных характеристик, более свойственный российскому обществу, а Y-матрица – альтернативный набор социокультурных характеристик (например, распределению противопоставляется рыночный обмен, кооперации – конкуренция, коллективизму – индивидуализм, служебному труду – наемный труд, порядку – свобода), более свойственный западному обществу (развитым капиталистическим странам). Согласно X–Y-теории, доминированию Х-матрицы соответствует поддержка институциональной структурой (разумеется, при правильном институциональном строительстве) производств, ключевой фактор которых используется коллективно, и производств, выступающих естественными монополиями, в том числе территориальными, причем в случаях, когда такая организация производств более эффективна в российских климатогеог- рафических условиях. Таковыми производствами выступают коллективные по сути у нас сельское хозяйство, лесные и рыбные промыслы и монопольные строительство и эксплуатация железных дорог, производство и передача электроэнергии, строительство и эксплуатация нефте- и газопроводов, централизованное тепло- и водоснабжение в городах и т. д. Поддержка этих производств происходит за счет того, что возникающие при коллективной или монопольной организации данных производств отношения между людьми соответствуют преобладающим душевным качествам российского народа, то есть его социокультурным характеристикам, зафиксированным в Х-матрице.
В статье «Влияние институциональной структуры на общественное производство» нами было показано, что на основе рассмотренного выше механизма поддержки отраслей нельзя объяснить многие явления технологической динамики в нашей стране, в частности успехи индустриализации 1928–1941 гг., где бурный рост испытали производства, не являющиеся естественными монополиями и не организовавшиеся в такой форме, например тракторостроение [Марчук, 2018]. Это требует поиска иного механизма поддержки отраслей институциональной структурой.
Результаты и обсуждение
Нами был обоснован иной механизм поддержки отраслей российской институциональной структурой, состоящий в поддержке коммунальных отраслей или отраслей, выпускающих коммунальные продукты (продукцию и услуги), то есть продукты, используемые коллективно или передающие свой полезный эффект сразу множеству организаций. Отношения, возникающие в ходе такого использования продуктов, как раз и соответствуют базовым Х-институтам, например распределению, кооперации, коллективизму. С точки зрения этой концепции поддержки отраслей со стороны российской институциональной структуры эксплуатация нефте- и газопроводов успешна в нашей стране не потому, что соответствующий транспорт организован монопольно, а потому, что соответствующими сетями одновременно пользуется множество лиц, производство электроэнергии также успешно не в силу своей монопольной организации, а потому, что его продукт – электроэнергия – одновременно поступает всем ее получателям [Марчук, 2018, с. 10].
Соответственно, неуспешность развития в России производства паровых и электродвигателей объясняется тем, что услугами этих машин пользуются отдельные организации, в частности предприятия промышленности, то есть они являются продуктами индивидуального потребления. В свою очередь, успешность строительства общественных железных дорог и паровозостроения объясняется в рамках нашей концепции поддержки отраслей российской институциональной структурой тем, что железными дорогами, как и услугами паровозов по транспортировке пассажиров и грузов, одновременно пользуется множество организаций, в том числе домашних хозяйств (и к тому же обслуживание железных дорог и паровозов осуществляется коллективно, например паровозов – паровозными бригадами).
Наша концепция поддержки отраслей российской институциональной структурой требует срочного переосмысления негативного отношения, сложившегося в стране, в том числе и у ее руководства, к перспективам развития в России ряда производств, которые в действительности являются успешными в нашей стране в силу их коммунальности и соответствующей поддержки со стороны российской институциональной структуры. За некоторыми такими производствами необоснованно закрепилась слава принципиально безуспешных отраслей в условиях России. В качестве примера рассмотрим дорожное строительство. Его негативный имидж закреплен в известном афоризме «В России две беды – дураки и дороги». Также говорится о «дорожном проклятии» России. Эти представления, разумеется, подпитываются неутешительной статистикой, прежде всего сравнениями с положением дел с дорогами в развитых странах. По значению коэффициента Энгеля (плотность автодорожной сети с поправкой на плотность населения) Россия находится на последнем месте среди стран БРИКС (2,79 против 7,32 у Индии; 4,46 у ЮАР; 4,42 у Бразилии и Китая) и не идет ни в какое сравнение даже с восточноевропейскими странами –
14,03 у Чехии и 12,22 у Польши [О перспективах ... , 2015, c. 7]. Подтверждением «дорожного проклятия» России выступают и сведения о масштабах воровства при строительстве дорог: по официальным данным Росфиннад-зора, при строительстве дорог в России воруют около 40 % их сметной стоимости [Муравьев и др., 2015].
Но получила ли Россия в действительности «дорожное проклятье»? Оказывается, нет, о чем говорят поразительные успехи страны в развитии дорожного строительства в отдельные периоды времени, зафиксированные в истории ее народного хозяйства. Известно, что в период 1817–1834 гг., начавшийся вскоре после окончания Наполеоновских войн, в России случился бум строительства дорог с твердым покрытием. В частности, в этот период (в 1820 г.) было сдано в эксплуатацию шоссе Петербург – Москва [Глазьев, 1993, с. 112]. Такой бум повторился в период советской индустриализации 1928–1941 годов. Если в 1928 г. в СССР было 32 тыс. км дорог с твердым покрытием, то в 1940 г. их длина составила 143,4 тыс. км [Тыл ... , 1977], то есть увеличилась в 4,5 раза менее чем за 15 лет. Как не бумом строительства шоссе в СССР можно назвать период 1961–1980 гг., когда их длина увеличилась с 289,9 тыс. км до 724 тыс. км, то есть в 2,5 раза! Сами российские дорожники вспоминают «Золотое двадцатилетие» дорожного строительства в стране – 1970–1990 гг., когда протяженность дорог с твердым покрытием выросла более чем наполовину [Путь ... , 2014]. Таким образом, нет никаких оснований считать дорожное строительство в России «зоной проклятия».
«Зоной проклятия» в нашей стране, правда только в условиях рыночной экономики, до недавнего времени считалось, а многими и по настоящее времени считается производство гражданских самолетов. В середине нулевых годов даже отраслевые специалисты перестали верить в то, что российский гражданский авиапром когда-нибудь возродится. Говорили, что отрасль прошла «точку невозврата», что ничто ее уже не спасет [Сопов, 2007]. Неверие в возрождение гражданского авиапрома было таково, что программу строительства российского регионального самолета, известного в настоящее время под именем «Сухой
Суперджет 100», с которым связывалось это возрождение, в 2005 г. чиновники Минтранса даже исключили из стратегии развития авиационной промышленности РФ [Петров, 2005]. Некоторые недостатки проекта (например, большая доля в стоимости SSJ-100 импортных комплектующих) и неудачи с его продвижением (отказ многих заказчиков от покупки и пр., в связи с чем выпуск самолета сокращается – упал с 33 штук в 2017 г. до 24 штук в 2018 г. при целевом уровне 40 самолетов в год) убили короткую эйфорию, возникшую после запуска самолета в серию, и вновь ввергли аудиторию в состояние пессимизма относительно перспектив возрождения отрасли: SSJ-100 похоронили как «международный хит», проект объявили не технологическим и экономическим, а политическим, а возрождение авиапрома – рекламной акцией [Дмитриенко, 2019].
Между тем нет никаких оснований считать Россию неуспешной в развитии данного производства в условиях рыночной экономики. Огромная роль политических факторов в продвижении экономических проектов общеизвестна, импортозависимость на начальной стадии продвижения такого товара является обычным делом, в связи с чем удачность гражданского авиапрома в России следует измерять возможностью бурного роста соответствующего производства. А такая возможность была продемонстрирована, когда производство гражданских самолетов в нашей стране с 13 машин в 2010 г. выросло до 32 в 2013, то есть почти в 3 раза (кстати, за счет SSJ-100) [Темпы производства ... , 2019]. Правда, дальнейший бурный рост не случился: в 2018 г. было произведено 38 гражданских самолетов SSJ-100 [Темпы производства ... , 2019]. Но, как выясняется, достигнутый уровень их производства совершенно не в десятки раз отличается от того, что было в СССР, слывшем передовой авиационной державой, особенно если производить корректные сравнения. Реально в 80-е гг. ХХ в. в СССР в пределах территории современной России, то есть в РСФСР, производилось от 48 до 134 гражданских самолетов. Таким образом, уровень в 38 машин для возрождающейся отрасли выглядит весьма достойно. Интересно, что достойным выглядит уровень выпуска самолетов
SSJ-100 по сравнению с уровнями выпуска однотипных самолетов в СССР. Так, максимальным был выпуск самолетов Ту-154 в 1980 г., достигший 76 машин [Темпы производства ... , 2019]. Таким образом, в 2017 г. выпуск SSJ-100 был лишь в 2,5 раза ниже, чем этот советский рекорд.
Да и можно ли считать выпуск гражданских самолетов неуспешной отраслью, если в настоящее время Россия демонстрирует мировые рекорды в некоторых отраслях авиастроения. В 2014 г. Россия по выпуску боевых самолетов (124 шт.) вышла на первое место в мире, обогнав США (не более 100 машин) и Китай, превысив при этом уровень выпуска боевых самолетов в СССР в целом (в 1983– 1990 гг. в Советском Союзе в среднем производилось 110 машин ежегодно) [Валагин, 2015]. В 2013 г. наша страна вышла на первое место в мире по производству боевых вертолетов, выпустив 212 машин, что также превысило советский уровень их производства на территории РСФСР. При этом производство вертолетов в целом также продемонстрировало возможность бурного роста, когда их выпуск вырос с 102 шт. в 2007 г. до 303 шт. в 2013 г. [Россия ... , 2014], увеличившись в три раза!
За некоторыми успешными в нашей стране производствами закрепился статус наркотической иглы, намекающий как на то, что их надо сворачивать или по крайней мере не развивать или развивать темпами ниже средних по экономике в целом, так и на то, что эти производства являются чем-то случайным для России. Одним из таких производств является добыча нефти, в которой Россия является мировым лидером. Считается, что на нефтяную иглу «сел» СССР: имеется в виду резкое увеличение добычи нефти в стране и превращение нефти в важнейшую статью экспорта, что сделало СССР мировым лидером добычи и экспорта нефти, которым страна оставалась до самого своего распада (в 1990 г. СССР добыл 552 млн т нефти, США – 320 млн т) [Семенович, 1992]. При этом мало кто знает, что для нашей страны лидерство в мировой добыче нефти не является чем-то новым. В Российской империи в 1848 г. была пробурена первая в мире нефтяная скважина близ г. Баку. Лишь потому, что она не дала нефти, первенство в создании современной не- фтяной промышленности, основанной на бурении и эксплуатации специальных нефтяных скважин, принадлежит США, где в штате Пенсильвания в 1859 г. была пробурена скважина, давшая нефть [Гутарева и др., 2015]. В России современная нефтедобыча началась в 1864 г. на Кубани. Но, несмотря на задержку, к концу XIX в. Российская империя стала мировым лидером в производстве нефти. В 1900 г. на нее пришлось 51,6 % мирового производства нефти против 42,2 %, что пришлось на долю США [Гутарева и др., 2015]. Таким образом, ни на какую нефтяную иглу Россия не садилась: производство нефти всегда было развитым в нашей стране. Это является лишним обоснованием того, что России в своем социально-экономическом развитии нужно продолжать делать ставку на эту отрасль, успешную для развития в российских условиях.
Выводы
Из нашей концепции поддержки отраслей со стороны российской институциональной структуры вовсе не следует требование отказа от развития у нас производств, выпускающих некоммунальные продукты (некоммунальных производств), например производств смартфонов, компьютеров, легковых автомобилей. Она лишь говорит о том, что развитие таких производств будет обходиться обществу и государству относительно дороже, чем развитие коммунальных производств. По этой причине в политике экономического роста целесообразно направлять государственные средства в первоочередном порядке на развитие коммунальных производств, так как оно способно обеспечить быструю отдачу, и рассчитывать на то, что именно растущий спрос со стороны бурно развивающихся коммунальных производств, а не государственные вливания вызовет развитие в стране некоммунальных производств. Наша концепция поддержки отраслей со стороны российской институциональной структуры также требует внесения корректировок в технологическую политику российского государства – включения в число приоритетов технологического развития всех коммунальных производств современного пятого и вступающего в фазу роста шестого технологических укладов. Как пока- зывает анализ документов стратегического планирования, определяющих научно-технологическую политику [Прогноз ... , Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 ... , 2016], в число приоритетов не включены такие коммунальные отрасли этих укладов, как авиастроение, кораблестроение, строительство и образование, в основном выступающие коммунальными производствами и, следовательно, в соответствующих частях успешные как в количественном, так и в качественном развитии в нашей стране.
Список литературы Социокультурные предпосылки технологического развития России и выбор его приоритетов
- Алтайский край. 2013 г.: календарь знаменательных и памятных дат. - Барнаул: ПринтЭкспресс, 2012. - 200 с.
- Валагин, А. Россия обогнала США по выпуску боевых самолетов / А. Валагин. - Электрон. текстовые дан. - 01.03.2015. - Режим доступа: https://rg.ru/2015/03/01/vvs-site-anons.html (дата обращения: 10.02.2019). - Загл. с экрана.
- Волынец, А. РТО на защите русской промышленности / А. Волынец. - Электрон. текстовые дан. - 19.11.2015. - Режим доступа: https://rusplt.ru/sdelano-russkimi/rto-na-zaschite-russkoy-promyishlennosti-19773.html (дата обращения: 06.01.2019). - Загл. с экрана.
- Глазьев, С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития / С. Ю. Глазьев. - М.: ВлаДар, 1993. - 310 с.
- Гумилевский, Л. Создатели двигателя / Л. Гумилевский. - М.: Детгиз, 1960. - 384 с.
- Гутарева, Н. Ю. История добычи нефти в России в XVI-XXI веках / Н. Ю. Гутарева, Н. В. Виноградов // Молодой ученый. - 2015. - № 8. - С. 53-55. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://moluch.ru/archive/88/17441/ (дата обращения: 13.01.2019). - Загл. с экрана.
- Дмитриенко, И. "Суперджет" попал в болтанку. Почему забуксовал главный проект российского авиапрома / И. Дмитриенко. - Электрон. текстовые дан. - 2019. - Режим доступа: https://profile.ru/economy/industry/superdzhet-popal-v-boltanku-pochemu-zabuksoval-glavnyj-proekt-rossijskogo-aviaproma-65730/ (дата обращения: 09.02.2019). - Загл. с экрана
- Ильинский, Д. П. Очерк истории русской паровозостроительной промышленности / Д. П. Ильинский, В. П. Иваницкий. - М.: Транспечать, 1929. - 144 с.
- Марчук, А. А. Влияние институциональной структуры на общественное производство / А. А. Марчук // Экономические науки. - 2018. - № 11 (168). - С. 7-11. -
- DOI: 10.14451/1.1687
- Мокршицкий, Е. И. История паровозостроения СССР 1846-1940 гг. / Е. И. Мокршицкий. - М.: Трансжелдориздат, 1941. - 260 с.
- О перспективах развития сети автомобильных дорог на территории Российской Федерации // Аналитический вестник. - 2015. - № 3 (556). - С. 4-16.
- Петров, В. RRJ - последний блеф российского авиапрома / В. Петров. - Электрон. текстовые дан. - 11.11.2005. - Режим доступа: https://utro.ru/articles/2005/11/11/494119.shtml (дата обращения: 09.02.2019). - Загл. с экрана.
- Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Правительством РФ). - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://www. consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc& base=LAW&n=157978&fld=134&dst= 1000000001,0&rnd=0.09163776447583483# 022896002943034688 (дата обращения: 10.01.2019). - Загл. с экрана.
- Путь длиною в столетия. - Электрон. текстовые дан. - 07.04.2014. - Режим доступа: rosavtodor. ru/storage/b/2014/04/07/1396883349_871520_ 17.doc (дата обращения: 21.01.2019). - Загл. с экрана.
- Россия вышла на первое место в мире по производству боевых самолетов и вертолетов. - Электрон. текстовые дан. - 13.11.2014. - Режим доступа: http://vg-news.ru/n/111601 (дата обращения: 10.02.2019). - Загл. с экрана.
- Семенович, В. В. Некоторые проблемы стабилизации добычи нефти в стране / В. В. Семенович // Геология нефти и газа. - 1992. - № 2. - С. 2-6.
- Сопов, C. Государство не понимает, что сегодня происходит в российском авиапроме / С. Сопов. - Электрон. текстовые дан. - 26.12.2007. - Режим доступа: https://www.newsko.ru/articles/nk-372813.html (дата обращения: 09.02.2019). - Загл. с экрана.
- Сотников, Е. А. Железные дороги мира из XIX в XXI век / Е. А. Сотников. - М.: Транспорт, 1993. - 200 с.
- Тараканова, Е. С. Появление и распространение паровых машин в России. Основные этапы и особенности этого процесса / Е. С. Тараканова // Ползуновский альманах. - 2004. - № 2. - С. 178-186.
- Темпы производства самолетов - сравнение. - Электрон. текстовые дан. - 2019. - Режим доступа: http://superjet.wikidot.com/wiki:prod-by-type (дата обращения: 09.02.2019). - Загл. с экрана.
- Тыл советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне. - М.: Воениздат, 1977. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://rbook.me/book/10819746/read/page/30/ (дата обращения: 22.01.2019). - Загл. с экрана.
- Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации". - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420384257 (дата обращения: 03.02.2019). - Загл. с экрана.