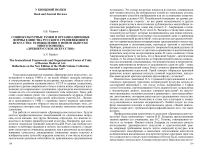Социокультурные рамки и организационные формы единства русского средневекового искусства: размышления о новом выпуске многотомника "Древнерусское искусство"
Автор: Марков Александр Викторович
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: У книжной полки
Статья в выпуске: 70, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается последний, изданный в 2017 г., том продолжающегося издания «Древнерусское искусство» как наиболее репрезентативного для русской историографии средневекового искусства православной восточной Европы. Включенные в этот том статьи показывают, что сохраняются лучшие свойства искусствоведческой школы, стоящей за этим проектом: учет богословского и культурного контекста, наличие социологической рефлексии, исследование самостоятельного развития форм и формальных решений, причем исходя не из идеологического предположения о «самобытности», но из семантической избыточности иконописи и храмовой архитектуры. Однако узость социальной коммуникации искусствоведов, а именно ограничение ежегодной конференцией, мешает некоторым авторам осуществлять социальную рефлексию последовательно, из-за чего в редких случаях появляются эклектизм в терминологии и упрощенные аргументы. Эти недостатки маргинальны по отношению к предложенным убедительным реконструкциям целых эпох развития искусства в восточнохристианском ареале. Авторы статей, включенных в новый том, показывают, как воспроизводство иконографических программ, развитие новых средств выразительности и конфликты сюжетных или декоративных традиций были неотъемлемой частью становления церковного искусства с собственным самосознанием мастеров. Иногда терминологические недоразумения мешают в полную силу применять семиотические и историко-культурные методы, разработанные основателями этого широко известного и авторитетного издания. Указано, какие слова, выражения или способы умозаключения нуждаются в корректировке, чтобы данный том был воспринят мировой медиевистикой как фактологически и методологически ценный.
Древняя русь, византия, древнерусское искусство, иконопись, средневековая архитектура, восточнохристианский мир, медиевистика
Короткий адрес: https://sciup.org/149139218
IDR: 149139218 | DOI: 10.54770/20729286_2021_4_138
Текст научной статьи Социокультурные рамки и организационные формы единства русского средневекового искусства: размышления о новом выпуске многотомника "Древнерусское искусство"
The Sociocultural Frameworks and Organizational Forms of Unity of Russian Medieval Art:
Reflections on the New Edition of the Multi-Volume Collection “Ancient Russian Art”
Тома продолжающегося издания «Древнерусское искусство», запущенного в начале 1960-х гг. на волне общего подъема интереса к отечественному историко-культурному наследию, общего поступательного развития медиевистики в СССР и странах социализма, развития туризма современного типа и поиска новых образцов вдохновения для современных художников, производили впечатление не только на тех, кто специально занимался этим периодом. Такое действие сопоставимо разве что с распространением журнала «Наше наследие», созданного при самом деятельном участии Д.С. Лихачева и выходившего с 1988 г: страницы такого журнала заполняют впечатляющие надолго образы и тексты предшествующих эпох, достоверность которых еще больше усиливает начальное впечатление удивления.
Так работал и многотомник «Древнерусское искусство»: будучи местом профессиональных высказываний по специальным вопросам, он не меньше, чем труды Лихачева, определял, что именно относится к истории древней русской культуры. Например, как соотносятся локальные традиции домонгольской Руси, как вообще возникает устойчивая традиция и почему мы можем говорить о традициях несмотря на очевидные разрывы, как в различных культурных влияниях сочеталось дискурсивное (появление новых текстов) и изобразительное (способы передачи сюжетов, в том числе исходя из мистических режимов событийности, принимаемых средневековым человеком). Это только несколько вопросов из многих, ставившихся при чтении казалось бы нейтральных статей по локальным стилям, по изменению способов изображения или по усложнению сюжетов.
Благодаря усилиям О.И. Подобедовой (имевшим на уровне риторики оборотную сторону1, но все равно неоценимым) и других членов редколлегии в многотомнике публиковались масштабные теоретические разработки, такие как статья С.С. Аверинцева о почитании Софии в Древней Руси2 или Г.К. Вагнера о стилистике домонгольской скульптуры3, которые воспринимались как новая перспектива вообще историко-культурных исследований даже в сравнении с дореволюционной религиозной4, иногда вполне натуралистичной5, так что привычная рамка интерпретации средневекового искусства, романтическая и позитивистская, выглядела частной и неточной. Наоборот, романтизм и его ценности творческой индивидуальности начинали смотреться чем-то частным в сравнении со впечатляющим развитием искусства на протяжении веков. И здесь особенно статья Аверинцева играла ту же роль, что в Западной Европе - критическая теория, от Коллежа социологии до Бирмингемской школы социальных исследований, показывавшая, что романтические и неоромантические притязания на вечность и задушевность сами по себе - лишь частный и маргинальный извод более сложного формообразования и конструирования идеологий. Такой поворот обернулся критикой привычек нового времени изнутри сложной перспективы, наподобие авангардной критики прежних философских установок6.
Показательно замечание О.А. Седаковой (предложившей и собственную программу трактовки литературной культуры исходя из достижений иконописи7), что после статьи Аверинцева о Софии стихи Евтушенко, претендовавшего быть выразителем «социализма с человеческим лицом», казались слишком простыми8: их дихотомии оказывались незначительными в сравнении с теми масштабными дихотомиями, которыми располагало средневековое искусство, такими как дихотомия безмолвия и слова или аллегории и символа (усвоенными и высоким модернизмом9). Любой лозунг на этом фоне оказывался плоским и произвольным, вроде «Людей неинтересных в мире нет»: требовался философский анализ того, что такое интерес.
Профессиональная идентичность выпусков «Древнерусского искусства» была однозначная - школа В.Н. Лазарева, представленная такими яркими его учениками, как О.С. Попова, отвечавшими отчасти и за теорию. Именно школа Лазарева не позволяла сводить исследование древнерусского искусства к идеологической рамке, например требованию видеть черты «народной культуры» или «творческого своеобразия» в иконописи: исследование контекстов возникновения иконописных или архитектурных программ (при том что социологии в статьях многотомника почти не было, невозможно представить там русскую Альперс или русского Баксендолла) не по- зволяло приблизить живой процесс становления образов, сюжетов и средств выразительности к плоскости идеологических ожиданий. Но этим дело не ограничивалось. Можно сказать, что отказ от плоскости ожидаемого, вместе с монографическим вниманием к каждому отдельному явлению древнерусского искусства, и определил эффект объемной оптики, вероятно, в чем-то неожиданный для самих составителей и научных редакторов многотомника, среди которых были Г.В. Вздорнов, Г.В. Попов и другие вожди комплексного изучения древнерусского искусства в этой искусствоведческой школе.
Оказалось, что дело не только в том, что формы древнерусского искусства не сводятся к конфликту стилей, влияниям или заимствованиям, но что существует собственная логика формы, благодаря которой потенциал стиля может раскрываться, и сама форма, подпи-тываясь современными идеями, может заявлять о высокой степени своей автономии, о способности определять порядки идей. Конечно, можно увидеть много параллелей школы Лазарева с новой Венской школой первой трети XX в., особенно с пониманием «духа эпохи» (Zeitgeist) Макса Дворжака10, с тем отличием, что этот дух эпохи оказывался не содержанием дискуссий или общественного интереса, но всякий раз раскрывался в очередной архитектурной или иконописной программе русского Средневековья. В этом смысле опыт Подобедовой, которая была глубоко церковным человеком и хорошо понимала устройство богослужебных риторических текстов, воспроизводящих эстетические и ценностные порядки прямо здесь и сейчас, перформативно, оказался бесценным для развития всей этой школы.
Теория внутри этой школы оказывалась не дихотомической, требовавшей связать, скажем, стилистическую эволюцию искусства и распространение практик исихазма, а трихотомической, связывавшей, например, стилистическую эволюцию, возникновение развернутых сюжетов со своими необычными формальными решениями и духовность исихазма. Поэтому, вероятно, а не только из-за институциональной разрозненности, на страницах многотомника не публиковались эстетик В.В. Бычков или физик Б.В. Раушенбах, вполне прославленные своими оригинальными исследованиями: их схемы были часто коррелятивны, соотносившими идеи эпохи и формальные поиски эпохи, но не подвижными, имевшими в виду и свободу художника, в которой только и проявляется и канон, и господствующая идея. В этом смысле позиция авторов статей многотомника была ближе Д.С. Лихачеву, у которого «литературный этикет» оказывается и опорой канона при создании новых произведений, и энергичным проявлением канона, созидающего новые формальные решения, нанизывающим новые сюжеты11. Только Лихачев мог взять одно явление как исходное, литературный этикет, а искусствоведам приходилось занимать сразу три точки наблюдения - например, смягчение стиля, появление многофигурных композиций и 140
субъективизация созерцания света, - и исходя из этого уже писать о связи исихазма и древнерусского искусства во время второго южнославянского влияния.
Рецензируемый том «Древнерусского искусства», составленный и отредактированный доктором искусствоведения М.А. Орловой12 и изданный Государственным институтом искусствознания в 2017 г, пока остается последним вышедшим в свет13.
Он открывается скупым предисловием, мало напоминающем о славных годах истории этого продолжающегося издания и обозначающем проблему тома как взаимосвязь больших и малых локальных центров. При этом география тома оказывается очень широкой: это не только Древняя Русь, представленная ее основными центрами становления и развития форм государственности, но и Византия, и государства византийского влияния. Конечно, такое расширение географии было с самого начала издания многотомника, который тем самым принял участие в изобретении Восточной Европы, пользуясь названием книги Л. Вульфа14: понятно, что писать о Болгарии было политически желательно в СССР, связывая тем самым пути устойчивых влияний в древности с современными путями научно-методического сотрудничества. В данном томе «Древнерусского искусства» один автор представляет Румынию, и еще один - Болгарию. При этом традиционно центрами изучения древнерусского искусства остаются Москва, Санкт-Петербург и Великий Новгород, что говорит о том, насколько общая проблема томов этого издания сохраняется: коммуникация, которая всегда обеспечивалась традиционными средствами, такими как ежегодная конференция и привычные циклы книжного производства, не подразумевает как раз интенсивного обмена между теми самыми большими и малыми центрами, жизнь которых в былые века и исследуется в сборнике.
Специфические искусствоведческие достижения авторов тома очевидны, и при рецензировании мы уделяем внимание тому, как именно решаются вопросы социальной и культурной истории. И здесь оказывается, что некоторые проблемы освещены довольно бегло, потому что для авторов было существеннее указать на сдвиги, смещения, трансформации, обновляющие сами способы изображения, иконологические программы, а не на исторические факторы этих сдвигов, ни один из которых не может быть назван в полном смысле решающим.
Так, Г.П. Геров пишет: «В процессе утверждения нового для того времени иконографического типа св. Николая существенную роль сыграли, по всей видимости, заказчики, почитавшие святителя как своего защитника»15. Но что означает слово «заказчик»: речь ли о ктиторе, о частном лице, корпорации или о церковном деятеле? Но также и что такое «защитник» - покровитель лица корпорации или защитник города и страны, - тоже не поясняется. Хотя понятно, что применительно даже к разным десятилетиям, регионам и социаль- ным стратам эти слова должны наполняться разным смыслом. Конечно, мы знаем, что в рассматриваемый период, XIII в., в том числе в регионах византийского влияния появляются корпорации, для которых св. Николай может быть покровителем, но в дальнейшем тексте приведен только пример иконы с изображением рыцаря-крестоносца, избравшего св. Николая покровителем - но покровителем чего? Похода и вообще военного дела? Лично себя или рода? Себя в данном звании, благодаря чудесному событию? Любой медиевист непременно задастся этими вопросами, каковые в статье, посвященной иконописным изводам, не затронуты.
Обратившись к первой статье тома, можно обратиться и к завершающей, где мы тоже сталкиваемся с тем же недоумением. Не менее блестящая статья А.В. Захаровой, ученицы О.С. Поповой, посвящена программам росписи апсиды на примере малоизученного памятника храмового зодчества в Трапезунде. Слова «неизвестный ансамбль» в заглавии подразумевают произведенное в статье уточнение атрибуций и реконструкцию иконологической программы, так что здесь риторика знакомства с новыми данными преобладает над терминологическим определением признания чего-либо в качестве «ансамбля», которое состоялось гораздо раньше. Можно, конечно, признать, что датировка и указание на влияния - этого достаточно, чтобы сказать об открытии неизвестного, того, мимо чего проходили и чего не замечали. Но здесь нас среди безупречных аргументов поджидают две фразы: «Как правило, в постиконоборческих византийских храмах конху апсиды занимало изображение Богородицы с Младенцем, символизировавшее Боговоплощение. В нашем храме эта тема получила дополнительный акцент, так как здесь представлены не только Мария с Младенцем, но и Ее родители»16. Что означает здесь символизация? Догмат о Боговоплощении иконоборцы не отрицали, они отрицали изобразимость божественной природы Христа, и тем самым, конечно, для противостояния иконоборчеству нужны были сюжеты явного схождения божественной и человеческой природы, в том числе и в патетическом в широком смысле плане восприятия17.
Но именно о символизации здесь вряд ли можно говорить - скорее, о литургическом созерцании богочеловечества, где уже важны не столько символы божественной или человеческой природы, но сам режим созерцания. Тем более, изображение родителей Богородицы (кстати, вопросом редакторским будет употребление заглавных букв в местоимениях не в церковных изданиях) едва ли высказывается в пользу изобразимости божественной природы, и выражение «дополнительный акцент» представляется нам темным: понятно, что любое обогащение иконографической программы вносит дополнительные акценты, усиливая либо идею божественного присутствия, либо - земной реальности происходящего, поэтому вне анализа таких обогащений сами замечания окажутся брошен- 142
ними мимоходом. Разумеется, как и в случае предыдущей статьи, наше возражение не затрагивает безупречную искусствоведческую аргументацию, но просто дает повод дальше поразмышлять над путями отечественной медиевистики.
Конечно, в рецензии невозможно с одинаковым вниманием представить все 25 статей этого труда, посвященных разным регионам, включая Армению, хотя мы и старались с одинаковым вниманием их читать. По сути, это - небольшие монографии, реконструирующие и внешние обстоятельства бытования отдельных артефактов, и институциональные условия их создания, и степень осуществления тех или иных эстетических программ в них, так что переплетение обстоятельств и факторов всякий раз выводит нас к этапным моментам развития иконописи и других церковных искусств. Поэтому обратим внимание только на то, что нам показалось проблемными узлами аргументации.
Так, в статье Л.А. Щенниковой упоминание надписи на греческом языке на иконе Одигитрии18 дано двояко: как «греческая» в авторских кавычках надпись и как грецизированная в авторских поясняющих скобках. Не очень понятно, что означает этот двойной квази-термин: ясно, что для иконописца, делающего список с греческого образца, важно воспроизвести все особенности образца, включая и надписи, поэтому можно говорить о языке надписи только как о греческом, независимо от возможных ошибок и путано сти, вызванной незнанием иконописцем греческого языка (а может быть, и невысоким его уровнем грамотности вообще). Если квази-термины автору статьи нужны для того, чтобы указать на внеграмматиче-ский статус этой надписи, что иконописец ее перерисовывал, а не писал по грамматическим правилам, то можно было бы говорить о воспроизведенной греческой надписи или о надписи как элементе изображения.
С этой проблемой сталкиваются обычно специалисты по западноевропейскому искусству, встречая «псевдоиврит», а на самом деле стилизацию ивритских букв, в библейских сюжетах вплоть до эпохи Реформации и Контрреформации, когда знание еврейского языка стало нормой работы со священной историей. Но здесь у нас не псевдогреческий, а греческий; и потому использование кавычек или скобок кажется нам бытовым жестом, вроде того, как иногда говорят «перевод» в кавычках про плохой перевод, вместо выражения «так называемый». Думается, распространение норм цитирования в отечественных публикациях, где кавычки употребляются только для чужой речи со ссылкой, должно привести к скорейшему пересмотру такой привычки.
Н.В. Пивоварова говорит о том, как в Сольвычегодске был исполнен «грандиозный комплекс местных икон, объединенных единой богословской программой»19. Но какая это богословская программа - не указано. В конце концов любой многоярусный иконостас можно считать вполне развернутой и завершенной богословской программой, как мы знаем со времени П.А. Флоренского20, что понимали и авангардисты21, и поставангардисты22, и что затем было включено в культурные палимпсесты советского времени23. Но далее выясняется, что эта программа не была самостоятельной - копировался иконостас Благовещенского собора Московского кремля, что говорит, скорее, об амбициях и самосознании главного заказчика и системе ожиданий других заказчиков, всех, кто будет причастен этому храму Истолковать, чего здесь выступило больше - притязаний главного заказчика или общей установки на столичность и внедрение ее образцов как знак присутствия этой успешной столичности - это проблема медиевистики, точнее изучения истории установок средневекового человека, определявших его или ее поведение и его или ее решения. В любом случае, богословской программой здесь оказывается московское богословие того времени, имеющее в виду именно такое осмысление библейских событий как части триумфального становления самого государства. И вопрос о том, изменилось ли это богословие при создании подражания, - тоже большой вопрос, как и любой вопрос о translatio imperii, некоторой тенью чего и можно считать создание северно-русских и уральских промышленных прото-государств или факторий в допетровскую эпоху. Являлось ли тиражирование московской программы воспроизводством того же богословия, или это знак того, что такое богословие стало местным достоянием, а значит, подлежит «пересборке» (пользуясь термином Бруно Латура24), внедрению как вполне эффективного в новых условиях, но и в меняющейся и неповторимой своей новизной ситуации? Возможно, здесь помог бы учет трансформационного потенциала христианских символов, выявленный еще в середине XX в. Э. Малем25.
Статья Вл.В. Седова о романском влиянии в архитектуре древней Руси, на примере прежде всего Переяславля-Залесского, тоже вызывает желание поспорить. Автор пишет о памятниках древнерусского зодчества, в которых проявились романские приемы декора, как о неустойчивом сотрудничества архитектора, верного локальным технологиям, и романских мастеров, которые не ограничиваются только отдельными элементами декора, но пытаются определять всю архитектурную программу. «Мы предполагаем, что архитектурные массы в Переславле, как и в Смоленске, распределял русский архитектор, связанный с южнорусской архитектурной традицией. Этот мастер не только разметил столбы, своды, арки, стены и купол, но и указал места для абстрактных капителей. И после того, как появилась модель или было дано словесное описание храма, иностранные мастера, связанные с романской традицией, с архитектурой Запада, задумали и осуществили цоколь подкупольных столбов и капители»26. Скорее всего, все так и было, но другое дело, что этот русский архитектор вряд ли исходил из некоторой завершенной идеи, кото- 144
рую потом модифицировали мастера, разрушив ее и создав некоторую систему компромиссов.
Дело в том, что в нашей оптике это выглядит как компромиссы, которые Вл. В. Седов в конце даже называет опасными, тогда как, по логике строительства, это просто была работа над зданием, и любое абстрактное должно было превратиться в конкретное. Мы не можем сказать, были ли мастера довольны друг другом (это вопрос исторической психологии), но мы можем уверенно говорить, что абстрагирующее проектирование если и было свойственно эпохе, то только потому что мы можем выделить этот момент, для нашего эвристического удобства рассказа о строении храма, а не потому, что состоялась такая глубокая драма стилистического конфликта, существенного для дальнейших путей искусства. В конце концов, рассматривая разные памятники, например церковь в Кидекше, автор реконструирует не драму, но отдельные сценарии взаимодействия русских и романских мастеров, каждый из которых уникален и потому не может иметь прямого продолжения.
Наконец, есть одно искусствоведческое замечание, связанное с употреблением слова «живописность» вне привычного со времен Вёльфлина противопоставления линейности и живописности27. Иногда «живописность» в отношении к иконам противопоставляется схематической экспрессивности и означает что-то вроде на-туроподобия. Например, так употреблено это слово в статье Е.М. Саенковой: «Очень живописны ножки Младенца - большой палец на правой ступне слегка приподнят вверх, а на подошве левой ступни высветления положены на пяточке и около пальцев, оставляя затененным высокий подъем»28. Вёльфлин бы счел, что такие жесты скорее воспроизводимы линейными произведениями Ренессанса, и только специфическая теория источников света в изучаемой иконе, развитая исследовательницей, объясняет, почему здесь речь идет о натуроподобии. Но вероятно, искусствоведам не следует стесняться терминов общей эстетической теории, иначе ограничение техническими терминами, как бы принадлежащими установленному и признанному порядку разговора об искусстве, как раз мешает воспринять ту традицию разговора об идеях, а не только о частных образах, которую многотомник «Древнерусское искусство» поддерживал десятилетиями.
Прочие замечания, которые могли бы быть предъявлены к статьям этого сборника, очередной раз повторим, монографическим и блестящим, повторили бы уже высказанные. Подведем только простой итог. Узкая институциональная база конференций - например, когда они созываются только в Москве и только среди уже имеющегося круга, - сейчас уже не есть побочный момент менеджмента науки, но одно из коренных условий производства нового знания. Поэтому такое положение дел препятствует достаточной социальной рефлексии, иногда создавая слепые пятна рассуждений. Эти слепые пятна не сказываются, или почти не сказываются, на высочайшем качестве включенных в этот том работ, в которых видна инерция мощной теоретической школы, о которой мы говорили в первой части статьи, как и инструментализация ее достижений применительно к малоизученному и очень сложному, даже просто по сохранности и нехватке источников, для интерпретации материалу
Никаких надуманных гипотез в этой книге мы не найдем, но зато приобретем настоящие инструкции, как именно работать с массивами музейных ценностей, если мы хотим связать, например, их происхождение и социальное функционирование. Но как мы видели, иногда такие белые пятна даже затрудняют оценку того, что в мировой науке вообще изучено, а что нет - не в смысле наличия достоверных знаний об отдельных артефактах, а в смысле изучения, например, эстетических программ и социальной реальности, их порождавшей, - с чем справились или не справились коллеги. Вот тогда и начинается в некоторых случаях изобретение самодельных терминов и понятий, с несколько бытовыми связываниями их.
Если социальные рамки встреч и коллабораций ученых не будут скорректированы, тогда эти изъяны могут начать угрожать достоверности знания. И пока этого не произошло и нашей искусствоведческой медиевистике есть по-прежнему чем гордиться перед мировой, надо думать над новыми форматами общения и взаимодействия.
Список литературы Социокультурные рамки и организационные формы единства русского средневекового искусства: размышления о новом выпуске многотомника "Древнерусское искусство"
- Chuvorkina, O.A. “Ieroglificheskaya” ikonografiya E. Malya [“Hieroglyphic” Iconography of E. Mahl.]. Artikult [Digital Journal], 2016, mo. 2 (22), pp. 100–109. (In Russian).
- Krishtaleva, L.G. Stradanie kak dukhovnaya praktika v pravoslavnoy traditsii [Suffering as A Spiritual Practice in the Orthodox Tradition.]. Artikult [Digital Journal], 2016, no. 3 (23), pp. 104–118. (In Russian).
- Levina, T.V. Abstraktsiya i ikona: Metafizicheskiy realizm v russkom iskusstve [Abstraction and Icon: Metaphysical Realism in Russian Art.]. Artikult [Digital Journal], 2011, no. 1 (1), pp. 141–187. (In Russian).
- Levina, T.V. “Za bortom absolyuta”: Kritika Kanta v epokhu avangarda [“Overboard of the Absolute”: Criticism of Kant in the Era of the Avant-Garde.]. Vestnik RGGU. Seriya: Filosofiya. Sotsiologiya. Iskusstvovedenie, 2021, no. 1 (24), pp. 36–53. (In Russian).
- Lifshits, L.I. and Orlova, M.A. Opyt raboty nad novoy “Istoriyey russkogo iskusstva” [The Experience of Working on a New “History of Russian Art”.]. Khudozhestvennaya kultura [Digital Journal], 2019, no. 4 (31), pp. 400–409. (In Russian).
- Lozovaya, L.Ya. Prostranstvo Vladimira Sterligova: ot suprematizma k chashe-kupolu [The Space of Vladimir Sterligov: From Suprematism to the Bowl-Dome.]. Artikult [Digital Journal], 2013, no. 2 (10), pp. 4–18. (In Russian).
- Malinina, T.G. Kulturnye palimpsesty: ikh proyavlenie i prochtenie v arkhitekturno-khudozhestvennykh tekstakh sovetskogo vremeni [Cultural Palimpsests: Their Manifestation and Reading in the Architectural and Artistic Texts of the Soviet Era.]. Artikult [Digital Journal], 2018, no. 1 (29), pp. 75–96. (In Russian).
- Markov, A.V. Iskusstvovedcheskie predposylki filosofii istorii episkopa Porfiriya Uspenskogo [Art Historical Preconditions for the Philosophy of History of Bishop Porfiry Uspensky.]. Artikult [Digital Journal], 2015, no. 4 (20), pp. 17–21. (In Russian).
- Markov, A.V. Sovetskoe bogomyslie [Soviet God-Thinking.]. Neprikosnovennyy zapas. Debaty o politike i kulture, 2014, no. 1 (93), pp. 24-40. (In Russian).
- Markov, A.V. and Martyanova, S.A. Upadok zhizni kak kanon iskusstva: “Sredniy uroven” russkoy idealisticheskoy filosofii [Decline of Life as a Canon of Art: “Average level” of Russian Idealistic Philosophy.]. Artikult [Digital Journal], 2017, no. 3 (27), pp. 123–133. (In Russian).
- Orlova, M.A. Ob odnom iz motivov rezby Georgiyevskogo sobora v Yuryeve-Polskom [On One of the Motifs of the Carvings of St. George’s Cathedral in Yuriev-Polsky.]. Vestnik Sektora drevnerusskogo iskusstva, 2019, no. 1-1, pp. 30–42. (In Russian).
- Orlova, M.A. Ob ornamentalnykh kompozitsiyakh v rospisi Rozhdestvenskogo sobora v Suzdale 1230 – 1233 godov [On the Ornamental Compositions in the Wall Paintings of the Cathedral of the Nativity in Suzdal, 1230 – 1233.]. Iskusstvoznaniye, 2019, no. 3, pp. 62–79. (In Russian).
- Orlova, M.A. Ob ornamente na svode galerei Uspenskogo sobora vo Vladimire [On the Ornamentation on the Arched Vault of the Gallery of the Dormition Cathedral in Vladimir.]. Khudozhestvennaya kultura [Digital Journal], 2019, no. 3 (30), vol. 2, pp. 224–239. (In Russian).
- Orlova, M.A. Ornamentalnyy dekor drevnerusskikh rukopisey pervoy treti XIII veka i balkanskiye khudozhestvennyye traditsii: Nekotoryye zamechaniya [The Ornamental Decoration of Ancient Russian Manuscripts of the First Third of the 18th Century and Balkan Artistic Traditions: Some Remarks.]. Iskusstvoznaniye, 2020, no. 4, pp. 10–25. (In Russian).
- Plankina, T.Yu. Suprematizm Malevicha i mistitsizm Ekkharta [Malevich’s Suprematism and Eckhart’s Mysticism.]. Articult [Digital Journal], 2017, no. 2 (26), pp. 27–39. (In Russian).
- Dvorak, M. Istoriya iskusstva kak istoriya dukha [The History of Art as the History of Ideas.]. St. Petersburg, 2001, 331 p. (In Russian). = Dvorak, M. Kunstgeschichte als Geistesgeschichte: Studien zur abendlandischen Kunstentwicklung. Munchen: R. Piper, 1924, 275 p. (In German). = Dvorak, M. The History of Art as the History of Ideas. London; Boston: Routledge & Kegan Paul, 1984, 114 p. (In English).
- Latour, B. Peresborka sotsialnogo: Vvedeniye v aktarno-setevuyu teoriyu [Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory.]. Moscow, 2014, 381 p. (In Russian). = Latour, B. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Oxford University Press, 2005, 301 p. (In English).
- Likhachev, D.S. Poetika drevnerusskoy literatury [The Poetics of Ancient Russian Literature.]. 2nd ed. Leningrag, 1971, 413 p. (In Russian).
- Wolfflin, H. Osnovnye ponyatiya istorii iskusstv [Principles of Art History.]. St. Petersburg, 2020, 244 p. (In Russian). = Wolfflin, H. Kunstgeschichtliche Grundbegriffe: Das Problem der Stilentwicklung in der neueren Kunst. Munchen: F. Bruckmann, 1915, 255 p. (In German). = Wolfflin, H. Principles of Art History: The Problem of the Development of Style in Later Art. New York: Dover Publications, 1929, 237 p. (In English).
- Wolff, L. Izobretaya Vostochnuyu Evropu: Karta tsivilizatsii v soznanii epokhi Prosveshcheniya [Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment.]. Moscow, 2003, 548 p. (In Russian). = Wolff, L. Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment. Stanford (CA): Stanford University Press, 1994, 419 p. (In English).