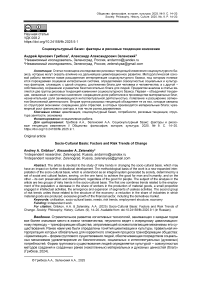Социокультурный базис: факторы и рисковые тенденции изменения
Автор: Грибков А.А., Зеленский А.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 9, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию рисковых тенденций изменения социокультурного базиса, которые могут оказать влияние на дальнейшее цивилизационное развитие. Методологической основой работы является новая расширенная интерпретация социокультурного базиса, под которым понимается порождаемая социумом интегральная система, определяемая совокупностью социальных и культурных факторов, служащая, с одной стороны, достижению блага для человека и человечества, а с другой – собственному сохранению и развитию безотносительно блага для людей. Предметом анализа в статье являются две группы рисковых тенденций изменения социокультурного базиса. Первая – объединяет тенденции, связанные с занятостью населения: сокращение доли работников в производстве материальных благ, незначительная доля занимающихся интеллектуальной деятельностью, появление и расширение сегментов бесполезной деятельности. Вторая группа рисковых тенденций объединяет те из них, которые связаны со структурой экономики: сокращение доли отраслей, в которых производятся материальные блага; чрезмерный рост финансового сектора, в том числе рынка деривативов.
Цивилизация, социокультурный базис, потребности, рисковые тенденции, структура занятости, экономика
Короткий адрес: https://sciup.org/149149070
IDR: 149149070 | УДК: 008.2 | DOI: 10.24158/fik.2025.9.1
Текст научной статьи Социокультурный базис: факторы и рисковые тенденции изменения
На ранних стадиях развития цивилизации ключевую роль играют биологические потребности (в дыхании, сне, тепле, пище, воде, сохранении здоровья, отдыхе и т. д.), влияние на которые со стороны других потребностей (в первую очередь, социальных) минимально.
По мере развития цивилизации они изменяются в соответствии с расширением и трансформацией социокультурного базиса – порождаемой социумом интегральной системы, определяемой совокупностью социальных и культурных факторов.
К числу первых относятся: актуальные формы социальных институтов (семьи, государства, экономики, науки и образования и др.); сложившееся разделение на классы, страты и группы по уровням материального благосостояния, образования и другим показателям социального статуса, влияющим на распределение ресурсов и возможностей; принятая в обществе мораль – система норм, принципов и ценностей, регулирующих поведение людей.
К числу основных культурных факторов относятся: культурная идентичность, определяемая языком общения и науки, накопленными духовными ценностями в виде произведений литературы, живописи, архитектуры, музыки, а также традиций и обычаев, передаваемые из поколения в поколение; совокупностью значимых материальных ценностей, накопленных обществом в процессе развития и определяющих его текущее состояние; культурная парадигма – система представлений, ценностей, норм и образцов поведения, которая определяет принятые способы мышления (в том числе научного – в рамках научной парадигмы), восприятия мира и взаимодействия с ним.
Социокультурный базис – активная система, служащая достижению нескольких, иногда противоречащих друг другу, целей.
Первой из них, наиболее естественной и оправданной, является благо для человека. Поскольку предметом нашего исследования является цивилизация (определяемая как локализованное во времени и пространстве общество (Власов, 2014), следовательно, речь идет о благе отдельного человека как социального индивида и о благе человечества как социального организма. Значительная (возможно, преобладающая) часть общественной (и интеллектуальной) активности человека является следствием социального принуждения. Карьерный рост, стремление к повышению материального благосостояния, выстраивание социальных связей и др. инициируются влиянием общества, в рамках которого целью активности является повышение социального статуса, от которого зависит степень удовлетворенности человеческих потребностей: в любви, принадлежности, уважении в самоактуализации (Маслоу, 2019). Огромное влияние социальное принуждение оказывает на интеллектуальную активность: уровень общего и профессионального образования, уровень и широта интеллекта – значимые факторы, влияющие на социальный статус человека.
Являются ли продукты социального принуждения благом для человека и человечества в целом? На этот вопрос, вероятно, следует дать положительный ответ, но с оговоркой относительно задания границ этого процесса (Velde, 2022). Результатом активности, инициируемой социальным принуждением, должно быть полезное пополнение социокультурного базиса, способствующее его расширению и обогащению. В противном случае социальное принуждение вредно и требует корректирования области приложения, интенсивности или формы.
Второй целью, во многих случаях неоднозначной, является поддержка и развитие социокультурным базисом самого себя: стратификации общества (сохранение социального неравенства или, напротив, его принудительное преодоление), экономической или политической системы, морали или культурной парадигмы и т. д.
Основным инструментом поддержки и развития социокультурного базиса, как и первой цели, является социальное принуждение, однако изначально не преследующее цели достижения блага для человека. Социокультурный базис проявляет себя как самовоспроизводящаяся система, использующая человека (первопричину своего существования) в качестве инструмента собственной стимуляции. Внутренние процессы, происходящие в рамках социокультурного базиса, инициируются всем множеством определяющих его социальных, экономических, политических, технологических и других тенденций, каждая из которых связана с другими, но при этом обладает существенной автономией, функционирует по собственным законам, ведет к своим целям.
Одной из областей, охватываемых социокультурным базисом, процессы в которой характеризуются высокой степенью автономии, а люди задействуются в качестве одного из инструментов, является экономика. Человек интегрируется в машинное производство и становится его придатком, интегрируется в рыночную систему и его потребности замещаются навязываемым спросом на те виды продукции, реализация которых служит интересам бизнеса и т. д. Социокультурный базис самопроизвольно расширяется, выходя за пределы социума и культуры. При этом внутренние регуляторные механизмы (в отличие от социума и культуры) в нем не всегда функционируют или имеются в наличии.
Оценивая перспективы развития человеческой цивилизации, необходимо исходить из признания ее обременения социокультурным базисом – Франкенштейном, действия которого нередко не соответствуют или даже противоречат интересам человека, и который существующими социальными механизмами не контролируется.
В рамках данной статьи мы проанализируем рисковые тенденции изменения социокультурного базиса, которые могут оказать влияние на дальнейшее цивилизационное развитие.
Рисковые тенденции изменения социокультурного базиса . Объективный анализ практики существования современной цивилизации выявляет множество разных по масштабам и возможным рискам тенденций, реализация которых противоречит или не способствует цели достижения блага для отдельного человека и человечества в целом. Определение исчерпывающей совокупности указанных тенденций пока не представляется возможным, поскольку реализующий их социокультурный базис – система, складывающаяся из множества сложным образом связанных между собой подсистем, многопараметрическая и динамическая. Тем не менее отдельные, наиболее явные, тенденции могут быть обнаружены. Их можно обобщить в две основные группы.
Первая группа объединяет тенденции, связанные со структурой занятости населения: сокращение доли работников производства материальных благ; незначительная доля занятых интеллектуальной деятельностью; появление и рост сегментов бесполезной экономической активности и др.
Сокращение доли занятых в производстве материальных благ обычно связывают с переходом к постиндустриальному обществу, характеризующимся переориентацией экономики с производства товаров на приоритет сферы услуг и увеличение значимости знаний.
За последний век прослеживается устойчивый тренд сокращения доли населения, занятого производством материальных благ. Д. Белл писал в 1973 г.: «В самом начале XX века лишь трое из каждых десяти работников в США были заняты в сфере услуг, а остальные семеро – в производстве материальных благ. К 1940 г. это соотношение фактически выровнялось. К 1960 г. уже шестеро из 10 трудились в сфере услуг. К 1980 г., учитывая растущий вес этой сферы, в ней будут заняты почти семеро из каждых 10 работников» (Белл, 2004: 173). В настоящее время сфера услуг, включающая торговлю, транспорт, финансы, образование, здравоохранение и др., является крупнейшим сектором занятости в развитых странах с промышленно-ориентированной экономикой. На ее долю приходится более 70 % занятого населения. В промышленности (включая индустрию и добычу полезных ископаемых) и сельском хозяйстве трудится 25 % граждан, в том числе 20 % – в промышленности.
Изменение структуры занятости часто объясняют большими возможностями повышения производительности труда в производственных отраслях. Однако это утверждение не выдерживает критики – возможности роста производительности труда во многих сегментах сферы обслуживания столь же широки. Так, безусловным потенциалом роста производительности труда обладают: торговля (18 % от общего числа занятых в развитых странах), транспорт и связь (7 %), государственное управление и обеспечение военной безопасности (8 %), финансовая сфера (4 %) (Не-четова, 2017). Возможности роста производительности труда в здравоохранении (13 %) и образовании (10 %) реализовать существенно сложнее, поэтому оставим эти сегменты за пределами нашей аргументации (Нечетова, 2017).
Сегмент интеллектуальной деятельности в структуре занятости в настоящее время невелик. Исходя из данных ЮНЕСКО, количество ученых (работников, занимающихся исследовательской деятельностью) в мире в 2022 г. составило 1 419,8 чел. на млн жителей, или 11,3 млн чел. (для сравнения в 2002 г. – 830,4 чел. на млн жителей, или 5,2 млн чел.)1. Количество людей, занимающихся искусством, точно неизвестно. Согласно существующим приближенным оценкам, в мире около 85 млн художников (2025 г.)2, до 100 млн профессиональных музыкантов (в том числе 9,6 млн – в США (2021 г.)3), менее 200 тыс. писателей. С некоторыми оговорками к сегменту интеллектуальной деятельности можно отнести образование. Количество педагогов в мире (на всех уровнях образования: от дошкольного до высшего) – 93,7 млн чел. (2019 г.)4, то есть примерно 2,5 % экономически активного населения.
Относительно новой тенденцией, проявившейся в последнее десятилетие, стало формирование сегментов бесполезной экономической активности. Характерный пример – майнинг криптовалют, при котором вычислительные мощности компьютера используются для решения сложных математических задач (криптографических хеш-функций) для верификации транзакций, вознаграждаемого криптовалютой. Майнинг криптовалют не порождает никакого продукта, решаемые задачи не имеют ценности. При этом процесс майнинга криптовалют энергозатратный. Согласно данным за 2024 г., суммарное потребление электроэнергии на майнинг биткоина составило 138 ТВт/ч, что соответствует 0,54 % от мирового потребления электроэнергии1 – уровень, превышающий расход крупной развитой страны (например, потребление электроэнергии Швецией – 131 ТВт/ч2).
На роль экономической активности обоснованно претендуют некоторые игры, в которых все чаще предусматривается механизм конвертации выигранных баллов, очков или игровой валюты в криптовалюту (иногда создаваемую специально под конкретную игру). Наибольшую популярность (25,1 % рынка3) среди мобильных игр в последние годы получили инкрементальные игры, игровой процесс в которых состоит из выполнения простых действий, таких как многократное нажатие на экран. Суммарный объем дохода на мировом рынке инкрементальных игр в 2024 г. превысил 25 млрд долл. (25,1 % от 100,54 млрд долл. объема мирового рынка мобильных игр4).
Вторая группа тенденций, реализация которых противоречит или не способствует цели достижения блага для человека и человечества в целом, относится к структуре экономики: сокращение доли отраслей, в которых производятся материальные блага, по сравнению с непроизводственными; рост финансового сегмента, особенно связанного с рынком деривативов (производных финансовых инструментов). В контексте второй группы тенденций также представляется целесообразным рассмотреть доходность розничной торговли.
Текущий объем мирового рынка деривативов – 714,7 трлн долл.6, что многократно превышает глобальный валовый внутренний продукт (ВВП) (111,3 трлн долл. в 2024 г.7). При этом рост объема рынка деривативов (на 30 % за период 2016–2024 гг.) уступает темпам роста глобального ВВП (на 45 % за тот же период), что, вероятно, свидетельствует о достижении рынком деривативов своего потолка.
Валовая рыночная стоимость деривативов, то есть сумма, отражающая фактические обязательства сторон, в середине 2023 г. составила 19,8 трлн долл. США8. В последние годы валовая рыночная стоимость деривативов быстро растет: в середине 2021 г. она составляла 12,6 трлн долл. – 64 % от уровня 2023 г.
Главными их держателями являются крупные американские банки. Объем деривативов, принадлежащих 25 наиболее крупным из них, в 1 квартале 2025 г. составил 209,1 трлн долл.9, в том числе: JPMorgan Chase – 55,2 трлн долл., Citibank – 52,6 трлн долл., Goldman Sachs –
50,1 трлн долл., Bank of America – 25,2 трлн долл., Wells Fargo – 15,3 трлн долл. Объем деривативов у каждого из прочих американских банков из Топ-25 не превышает 3 трлн долл.
Помимо американских банков, к числу крупнейших обладателей деривативов также относятся: немецкий Deutsche Bank – 60,0 трлн долл. (2024 г.)1, британский The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) – 30,1 трлн долл. (2024 г.)2, японский Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) – 3,2 трлн долл. (2023 г.)3, а также (крупнейший в мире по величине активов, в 2021 г. составивших 5,1 трлн. долл.) китайский Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) – свыше 3 трлн долл. (2023 г.)4.
Значимыми участниками рынка деривативов также являются хедж-фонды. Размер мирового рынка, формируемого ими, в 2024 г. оценивался в 5,3 трлн долл.5 В 2010 г. 71 % хедж-фон-дов торговали на рынке деривативов (Chen, 2011), в настоящее время этот показатель немного снизился. В 1 квартале 2025 г. из десяти крупнейших хедж-фондов на рынке деривативов торговали 58,5 %; из занимающих в топе позиции от 11 до 50 – 57,2 %; из хедж-фондов, находящихся на позиции ниже 50, – 66,8 %. Совокупный объем деривативов, принадлежащих хедж-фондам, в 1 кв. 2025 г. составил 33,7 трлн долл.6
Все более заметное влияние на мировой рынок деривативов оказывают розничные инвесторы. В частности, одним из наиболее активно растущих рынков деривативов является индийский, где в 2023 г. среднемесячный объем торгов деривативами превысил 130 трлн долл., из которых 41 % приходится на розничных инвесторов7. Во многих случаях торговля деривативами для них заканчивается финансовыми потерями. Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) подсчитал, что 90 % активных розничных трейдеров теряют деньги, торгуя опционами и другими производными контрактами. За 2022 г. розничные инвесторы в Индии потеряли на этом 5,4 млрд долл.8
Наряду с рассмотренными выше тенденциями, подозрения у рядовых потребителей вызывают торговые сети и в целом розничная торговля. Эти подозрения связаны с возможностью установления необоснованно высокой наценки на товары. Отвечая на такие подозрения, торговые сети указывают на сравнительно низкую рентабельность продаж по чистой прибыли (порядка 3 %). Однако следует отметить, что рентабельность продаж, рассчитываемая как отношение прибыли к выручке (себестоимость плюс прибыль), не является информативным показателем эффективности торговой организации, поскольку основную часть себестоимости составляет стоимость закупаемого товара. Адекватным показателем следует считать рентабельность по добавленной стоимости, рассчитываемую как отношение чистой прибыли к добавленной стоимости.
Определим значение данного показателя для розничной торговли США в 2023 г. Для этого нам потребуются следующие исходные данные: выручка от розничной торговли – 7,22 трлн долл., чистая прибыль розничной торговли – 3,2 % от выручки, валовый внутренний продукт США (ВВП) – 27,72 трлн долл., валовая добавленная стоимость розничной торговли – 6,4 % от ВВП9. Расчет по- казывает, что рентабельность по добавленной стоимости для розничной торговли США в 2023 г. составляет 13,0 %. Для сравнения, отношение чистой прибыли во всех отраслях экономики США (3,69 трлн долл. в 2023 г.1) к ВВП – 13,3 %, то есть практически не отличается от показателя для розничной торговли. Таким образом, можно с достаточной долей уверенности предположить, что торговые сети и другие торговые организации не получают сверхдоходов (по крайней мере, в США).
Наряду с рассмотренными двумя группами тенденций, относящихся к занятости населения и структуре экономики, на состояние общества также заметное влияние оказывает тенденция постепенной деформации потребностей, в частности, уже упомянутое нами ранее, смещение от потребностей к спросу. Сложность точной формализации этой тенденции связана с тем, что действительные (объективные) потребности человека и человечества неизвестны. Основная их часть формируется в контексте текущей социальной конфигурации, сложившегося нарратива общественного развития, принятых структуры и норм потребления, тенденций моды и т. д. В результате потребности приобрели социальный характер и инициируются не столько внутренними процессами человека, сколько сложившемся социокультурным базисом, интегрирующим в себя человека (нередко не интересуясь его мнением, а используя инструменты социального принуждения).
Одним из частных, но перспективных шагов в направлении подчинения Франкенштейна социокультурного базиса интересам блага для человека и человечества является наблюдаемый в настоящее время процесс персонализации потребления. Под ним понимается адаптация предложения товаров и услуг под индивидуальные потребности и предпочтения потребителя. Такая адаптация требует существенного изменения структуры экономики, в частности, отказа от массового производства и оказания услуг в том виде, в котором они существовали до недавнего времени. Ранее проведенные нами исследования в области станкостроения показали, что сохранение экономической эффективности при отказе от массового производства товаров и оказания услуг возможно и связано со стандартизацией элементной базы товаров и услуг, а также с использованием модульного подхода при генерации конечного продукта (Индустрия 4.0 в станкостроении …, 2021).
Обобщая наблюдаемые рисковые тенденции изменения социокультурного базиса, можно констатировать существенное несоответствие современной цивилизации своей роли удовлетворения потребностей людей, особенно в контексте достижения блага для человека и человечества. Является ли это несоответствие фактором, способствующим переходу к следующему этапу цивилизационного развития? С высокой долей уверенности можно дать положительный ответ. Нестабильность, несбалансированность общества делают его более подверженным изменениям, уменьшая «инерцию покоя», возникающую в гармонизированном обществе, лишенном существенных диспропорций и сбоев в функционировании. Наиболее серьезные социальные трансформации при переходе к цивилизации когнитивных технологий ожидают сферу занятости и отраслевую структуру экономики. Именно в этих областях наблюдаются в настоящее время рисковые тенденции изменения социокультурного базиса.
Заключение . Резюмируем проведенное в статье исследование:
-
1. Цивилизационное развитие общества, прошедшего стадию преобладания биологических потребностей, характеризуется поддержанием и расширением социокультурного базиса – порождаемой социумом интегральной системой, определяемой совокупностью социальных и культурных факторов.
-
2. Социокультурный базис – активная система, служащая достижению двух противоречащих друг другу целей: обеспечения блага для человека и собственному сохранению и развитию (в том числе в ущерб интересам человека).
-
3. Наличие второй из указанных целей социокультурного базиса порождает рисковые тенденции его изменения, реализация которых противоречит или не способствует цели достижения блага для человека и человечества в целом.
-
4. Указанные тенденции можно обобщить в две основные группы. Первая группа объединяет те из них, которые связаны с занятостью населения: сокращение работников в производстве материальных благ, незначительная доля занятых интеллектуальным трудом, появление и расширение сегментов бесполезной деятельности. Вторая группа объединяет тенденции, связанные со структурой экономики: сокращения доли отраслей, в которых производятся материальные блага, чрезмерный рост финансового сектора, в том числе рынка деривативов.
-
5. Наряду с указанными формализованными группами рисковых тенденций изменения социокультурного базиса также следует сказать о постепенной деформации потребностей, в частности, о смещении от потребностей к спросу. Средств преодоления данной тенденции пока нет, однако некоторого ослабления ее возможно достичь посредством персонализации потребления – тенденции, получившей в последние годы значительное распространение.