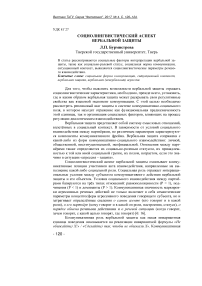Социолингвистический аспект вербальной защиты
Автор: Бурмистрова Людмила Павловна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования текста и дискурса
Статья в выпуске: 4, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются социальные факторы интерпретации вербальной защиты, такие как социально-ролевой статус, социальная норма коммуникации, ситуационный контекст, выявляются социолингвистические параметры речевого взаимодействия.
Социальная форма коммуникации, ситуационный контекст, вербальная защита, вербальная (невербальная) агрессия
Короткий адрес: https://sciup.org/146278340
IDR: 146278340 | УДК: 81`27
Текст научной статьи Социолингвистический аспект вербальной защиты
Для того, чтобы выяснить возможности вербальной защиты отражать социолингвистические характеристики, необходимо, прежде всего, установить, где и каким образом вербальная защита может раскрывать свои регулятивные свойства как языковой экспонент коммуникации. С этой целью необходимо рассмотреть репликовый шаг защиты в системе коммуникативно-социального поля, в котором находят отражение как функциональная предназначенность этой единицы, так и организация социальных факторов, влияющих на процесс регуляции диалогическим взаимодействием.
Вербальная защита представляет собой систему смысловых отношений, вплетённых в социальный контекст. В зависимости от условий социального взаимодействия между партнёрами, по различным параметрам характеризуются компоненты коммуникативного фрейма. Вербальная защита сопряжена с какой-либо из форм коммуникативно-социального взаимодействия: личной, общественной, институциональной, неофициальной. Отношения между партнёрами также определяются их социально-ролевым статусом, их принадлежностью к той или иной социальной группе, их полом, возрастом, если это значимо в ситуации «агрессия - защита».
Социолингвистический аспект вербальной защиты охватывает коммуникативные позиции участников акта взаимодействия, направленные на выполнение какой-либо социальной роли. Социальная роль отражает интеракци-ональные условия между субъектом коммуникативного действия вербальной защиты и его объектом. Условия социального взаимодействия между партнёрами базируются на трёх типах отношений: равноположенности (Р = 1), подчинения (Р < 1) и доминанты (Р > 1). Коммуникативная значимость маркировки агрессивных речевых действий не только включает в себя семантические параметры концептосферы агрессивного поведения говорящего субъекта, но и затрагивает определённые сведения о самом агенте (кто говорит и в какой роли), о его партнёре (кому говорят и в какой он роли, настроении, статусе), о порядке обмена речевыми действиями и о речевой ситуации (когда говорят, зачем говорят, с какой целью говорят, где говорят) [6: 16].
Коммуникативная роль вербальной защиты как некая инвариантная единица поведения основывается на реализации инвариантной формулы «Не обижай(те) X!» / «Сделай(те) так, чтобы не обижали X». Коммуникативная роль защиты связана с соответствующими нормативными ожиданиями, которые могут проявляться у партнёров в той или иной ситуации общения, в той или иной социальной обстановке. Действия, соответствующие таким ожиданиям и прогнозируемые в соответствии с этими ожиданиями, считаются нормативными действиями и могут осуществляться в системе определённых норм и правил, которые признают участники акта взаимодействия как члены социального коллектива. Ориентация на нормативное поведение партнёров в соответствующих ситуациях оказывает влияние на сам процесс взаимодействия и на координирование действий самих участников этого процесса.
По мнению исследователей, таких как В.З. Демьянков, Е.С. Кубрякова, И.П. Сусов, процесс передачи информации всегда сопровождается когнитивными процессами, лежащими в основе коммуникации. Интерпретируя высказывания, адресат использует импликации, а также экстралингвистические знания. Исходя из когнитивного познания мира (Я ↔ Мир), вербальная / невербальная агрессия вменяется в вину ответчику и представляет собой нарушение определённых норм. Принимая во внимание, что норма бывает часто имплицитна, иногда достаточно одного сигнала, чтобы метаквалификация положения дел перешла из плохого (‒) в хорошее (+), нейтральное (±) или наоборот. Один и тот же факт, подтверждающий вербальную / невербальную агрессию, может перейти из метаквалификации «положительного» (+) или нейтрального (±) в метаквалификацию «отрицательного» (‒) и наоборот. Например, речевой акт обвинения «Ты захотел мне причинить зло» может иметь различную квалификацию социальной нормы, а, следовательно, различную метаквалификацию. Чтобы признать, что в контексте предварительных действий присутствует стимул к вербальной защите, нужно различать:
-
– акт обвинения;
-
– социальную норму коммуникации;
-
– метаквалификацию нормы;
-
– квалификацию социальной нормы;
-
– ситуационный контекст.
В данном контексте акт обвинения вменяет в вину ответчику положение дел (ситуационный контекст), который квалифицируется, как обстоятельство типичного факта (например, воровство, а не заём). Этот факт имеет отрицательную метаквалификацию (‒) и для него социальная норма предусматривает ответные действия в виде социальных и/или юридических санкций. Для акта обвинения К. Кербрат-Ореккьони описывает контекст предварительных действий как обиду, а не как нападение [7]. Для нормы и метаквалификации можно провести исследование жалоб, которые поступают от граждан в правоохранительные органы. Те, кто заявляет о преследовании, описывают факты, вменяемые в вину преследователю (акт обвинения). Далее следует квалификация социальной нормы (например, преследователь умышленно ранил…), которая имеет юридическую метаквалификацию (например, нарушение закона), цитируются нормы Уголовного кодекса (предусмотрено наказание статьями…). Однако заявители, чаще всего, описывают факты преступления обычным языком, оставляя квалификацию социальной нормы, метаквалификацию и идентификацию нормы на попечение юридических учреждений. В повседнев- ных коммуникативных актах квалификация обвинений часто смягчается (например, взять, а не украсть).
Рассмотрим ситуацию, когда метаквалификация нормы становится неопределённой; ситуационный контекст одинаково интерпретирует две различные социальные нормы:
-
(1) В поезде женщина среднего возраста толкает сумку спящей девушки, чтобы освободить место рядом с ней. Девушка, раздраженная тем, что её разбудили, злобно смотрит на попутчицу, которая отвечает ей, что не имела намерения украсть сумку. У двух пассажирок акт обвинения связан с различными социальными нормами: разбудить спящего человека и украсть сумку.
Метаквалификацию можно определить в обстоятельствах или в их формах: водить машину - само по себе не есть зло, но может быть злом, если это делать неосторожно; сказать: «Я сожалею» - не есть зло, но может им стать, если это - ложь. Рассмотрим пример, где вербальная защита «...я никому не могу причинить зла или вреда» приобретает метаквалификацию зла, учитывая, что его автор признаёт деградацию своей личности:
-
(2) « Ах, мой друг, мой верный дневник. Ты-то ведь не выдашь меня? Дело не в костюме, а в том, что я в лечебнице украл морфий. Меня интересует не только это, а ещё вот что. Ключ в шкафу торчал. Ну, а если бы его не было? Взломал бы я шкаф или нет? Взломал бы.
Итак, доктор Поляков - вор. Да, я дегенерат. Совершенно верно. У меня начался распад моральной личности. Но работать я могу, я никому из моих пациентов не могу причинить зла или вреда» [1: 105].
Говоря о социолингвистическом аспекте вербальной защиты, следует учитывать кодекс доверия партнёров, представляющий различные параметры речевого взаимодействия, такие как истинность, искренность намерения. Немаловажную роль в этом плане играют категории, способствующие выработке доверия к партнёру. К ним относятся, прежде всего, категории тактичности, вежливости или словесного этикета, где тактичность и вежливость не синонимичны доброжелательности / недоброжелательности участников относительно друг друга лично и относительно их намерений. Например, можно быть недоброжелательно настроенным к репликовому шагу партнёра, но сохранять при этом тактичность и вежливость [5: 19].
Социально-ролевой статус коммуникантов опирается на определённый круг прав и обязанностей самих участников, на их осведомлённость об этих правах и обязанностях. Социальные ситуации, социально-ролевой статус партнёров образуют экстратекстуальные (прагматические) факторы, которые становятся составной частью фреймовой организации диалогического взаимодействия в целом и вербальной защиты в частности и требуют своего учёта при планировании (или осуществлении) той или иной формы воздействия партнёров друг на друга. Рассмотрим пример, где нарушение определённых прав и обязанностей коммуниканта (Б) является причиной возникновения вербальной защиты:
-
(3) (А) - Да вы не сердитесь, Егор Иваныч, - сказал он примирительно и смущённо. - Я не хотел вас обидеть. Какой вы раздражительный!
(Б) – Раздражительный, раздражительный, – с бестолковою злостью подхватил Жмакин. – Вполне станешь раздражительным . Не люблю я этих разговоров… вот что… Да и вообще, какая я вам компания? Вы человек образованный, аристократ, а я что? Серое существо – и ничего больше. [2: 244].
Коммуникативная заинтересованность партнёров в диалогическом сотрудничестве градуируется следующим образом: заинтересованность – нейтральность – незаинтересованность. Это означает, что говорящий или адресат желают реализации намеченного ими действия в репликовом шаге и ждут ответного действия в том же направлении. Но для партнёра значимость такого шага может не представлять интереса, и ради сотрудничества он будет оставаться нейтральным к нему, прикладывать минимум усилий лишь для сохранения диалогического взаимодействия, а не для развития стратегической инициативы своего партнёра, например:
-
( 4) – Что вы! Что вы это! – громко заговорил, отчаянно замотав руками, Препотенский. – Доносить! Да ни за что на свете.
– Да ведь ты же их ненавидишь!
– Ну так что ж такое?
– Ну и режь их, если ненавидишь!
– Да; извольте, я резать извольте, но… я не подлец, чтобы доносы… [3: 208].
Речевая деятельность разворачивается в структуре неречевой деятельности для выражения интересов участников взаимодействия. Поэтому, с одной стороны, она занимает подчинённое положение относительно неречевой деятельности, так как обслуживает коммуникантов в момент совершения ими неречевых действий. С другой стороны, именно в процессе коммуникации участники взаимодействия овладевают набором ролевых проявлений, причём не только коммуникативных, но и социальных. Принимая во внимание этот факт, можно предположить, что социальная роль как доминанта представляет собой некоторую сумму общественно детерминированных и санкционированных условий, составляющих конкретную модель поведения. Эта нормированная модель поведения выражается не только в неречевых действиях носителя роли, но и в модели его речевого поведения, а именно в выборе им соответствующих его социальной роли форм речи, составляющих вербальную сторону существования роли.
Коммуникативная деятельность в рамках вербальной защиты представляет собой последовательность действий «агрессора» / «организатора» и «защитника» / «ответчика» и включается в более глобальный вид деятельности – регулятивную деятельность. Защита является одним из способов регуляции поведения партнёра по общению путёем навязывания ему определённой нормы поведения со стороны «агрессора» / «организатора». О.В. Новоселова полагает, что любое явление или событие находит отражение в языке, а коммуникация отражает явления действительности. Правомерно предположить, что возможно установить вербальную защиту / агрессию социальной коммуникативной практики в каждом конкретном случае, в момент употребления той или иной практики, устанавливающей некоторое положение дел в рассматриваемой сфере. Особая социальная реальность отношений между собеседниками реализуется в социальной интеракции, где проявляются намерения собеседников, их отношения друг к другу [4].
Подводя итог, можно заключить, что с позиции социальной структуры и социальных отношений вербальная защита представляет собой ответную реакцию на нарушение социальных норм коммуникации, выраженную вербальной / невербальной агрессией. Эти регулятивные действия вплетены в ткань социальных взаимоотношений и учитывают такие социолингвистические аспекты, как статус, социальная роль участников интеракции, социальная норма коммуникации, ситуационный контекст.
Список литературы Социолингвистический аспект вербальной защиты
- Булгаков М.А. Избранные произведения. М:. АСТ-Пресс Книга, 2002. 848 с.
- Куприн А.И. Поединок; Рассказы. М:. Художественная литература, 1979. 365 с.
- Лесков Н.С. Соборяне. Захудалый род. М:. Правда, 1986. 576 с.
- Новоселова О.В., Романов А.А., Романова Л.А. Прагматика коммуникативной справедливости//Вестник Тверского государственного университета. Серия «Педагогика и психология». 2015. № 4. С. 23-35.
- Романов А.А. Системный анализ регулятивных средств диалогического общения. М.: ИЯ АН СССР, 1988. 183 с.
- Романов А.А., Костяев А.П. Типология актов вербальной агрессии в профессиональном общении//Вестник Тверского государственного университета. Серия «Педагогика и психология». 2011. Вып. 1. С. 15-27.
- Kerbrat-Orecchioni C. Les interactions verbales. Paris: Armand Colin, 1994. 152 p.