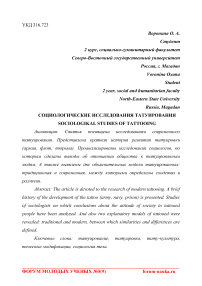Социологические исследования татуирования
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованиям современного татуирования. Представлена краткая история развития татуировки (армия, флот, тюрьма). Проанализированы исследования социологов, по которым сделаны выводы об отношении общества к татуированным людям. А также выявлены две объяснительных модели татуированных: традиционная и современная, между которыми определены сходства и различия.
Короткий адрес: https://sciup.org/140278678
IDR: 140278678
Текст научной статьи Социологические исследования татуирования
Исследования татуирования развиваются в рамках различных теорий социологии среднего уровня, например, социология девиаций, тела, личности, молодежи, субкультур. Отечественные авторы, занимающиеся изучением молодежных субкультур, сделали вывод, что они играют немаловажную роль в социализации и становлении личности молодого человека. С одной стороны влияет положительно, когда дают толчок к саморазвитию и реализации творческих способностей молодежи, а с другой могут культивировать приоритет потребления готовой продукции над креативом, а так же стимулировать девиантное поведение, в зависимости от своей направленности и идеологии [1]. Если исходить из определения, субкультура – это часть общей культуры со своими отличительными признаками, которыми могут быть определенные взгляды на жизнь, выделяющаяся одежда, жаргон, а также различные телесные модификации. Подробнее обратимся к такой модификации как татуировка. Проблема отношения людей к татуировкам на протяжении всей истории постоянно изменяется.
В эпоху поздней античности татуирование в армии приобрело известность, когда в Риме с 4 в. н.э. практиковалось у солдат. Устойчивое формирование татуировани я на флоте приходится на VXIII-XIX вв., Появление феномена тюремного татуирования входит в научную традицию лишь в XIX в. [2]. Первоначально татуирование в тюрьме носило добровольный характер. Однако со временем по инициативе тюремных авторитетов его стали применять насильственно по отношению к «отверженным», является следствием особой тюремной этики, зародившейся «снизу», в недрах тюремной субкультуры [5].
Первая волна моды на татуирование возникла в Европе в XVIII–XIX вв. вследствие появления там первых татуированных «дикарей», завозимых европейскими мореплавателями.
Вторая волна моды на татуирование сопутствовала возникновению моды на «японское» и развилась вскоре после посещения в 1881 г. Японии принцем Уэльским, который сделал себе традиционную японскую татуировку. Это стало «достоянием общественности» и способствовал изменению отношения к татуировке.
Третья волна моды на татуирование зародилась в 60-е гг. XX в. и совпала с возникновением музыкальной (рока, затем панка и панк-рока) и байкерской субкультур, а затем скинхедов и футбольных фанатов. К концу 1970-х гг. возникает художественное течение «боди-арт», частью которого становится татуирование, и к концу 1980-х гг. оно окончательно выходит за пределы контркультур, становится популярным среди знаменитостей, а в настоящее время практикуется всеми без исключения социальными слоями и является одной из многочисленных телесных практик.
В России татуирование как относительно массовое явление берет начало в 90-х гг. XX в., в период радикальных изменений политической, экономической и социальной ситуации.
По предварительным подсчетам, с 1995 по 2016 гг. только в Москве открылось не менее 200 тату-салонов, и примерно такое же количество частных тату-мастеров принимают клиентов у себя на дому. Ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге проводятся международные тату-конвенции, позволяющие провести аналогию между ними и официальными профессиональными мероприятиями, имеющими место в кино- и театральной индустрии, моде и современном искусстве. Таким образом, современная тату-культура, берущая начало в частных практиках татуирования, одновременно позиционирует себя как одно из направлений современного искусства. В этом смысле уместно говорить о тату-культуре современного общества как о «художественной», критериями которой является самоидентификация тату-мастеров и их клиентов. С одной стороны мастера квалифицируют свои татуировки как произведения искусства, с другой — обозначают полное отмежевание от традиций и символики тюремных «наколок» и от армейских и флотских «портаков».
При этом современная тату-культура, в отличие от других видов искусств, носит маргинальный характер, который выражается в юридической «неполноценности» тату-профессии и социальном неприятии тату-культуры в целом [4].
До сих пор нет единого мнения по вопросу отношения людей к татуировкам. Сторонники точки зрения, что это издевательство над природой, в частности над собой, не признают такие эксперименты над телом и считают обладателей татуировок не слишком высокоразвитыми. Другие считают это наилучшей формой самовыражения, как для мастера, делающего рисунок, так и для его будущего носителя. Третьи считают, что эта одна из форм психического расстройства личности.
Согласно проведенному Е. С. Воробьевой в 2011–2014 гг. пилотному исследованию в двух московских университетах, МГУ им. Ломоносова и МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского (анкетный опрос, кластерная выборка, N=300), татуировки есть у 13,5 % студентов, и 26 % студентов испытывают желание сделать татуировку впервые.
При этом второе исследование, проведенное Воробьевой с 2012 по 2016 гг. (экспертные интервью с тату-мастерами и их клиентами, выборка по методу «типичных представителей», N=40), показывает, что социальный статус тату-аудитории не исчерпывается студенчеством, и клиентами тату-мастеров становятся представители самых высоких социальных страт.
По результатам двух исследований, Воробьева делает выводы, что представители современной тату-культуры нередко сталкиваются с социальным неприятием, усугубляющим проблему ее легитимации:
человеку могут отказать в приеме на работу или оскорбить только на том основании, что на его теле есть татуировка. Отношение людей, не имеющих татуировки и не испытывающих желания ее делать, к татуированным людям, с трудом можно назвать лояльным. Татуировка ассоциируется у старшей возрастной категории — с тюрьмой либо с психическим расстройством. В молодежной возрастной группе, наиболее восприимчивой к разному роду нововведениям и экспериментам, ситуация не столь однозначная, но в целом может быть охарактеризована как амбивалентная.
Татуированные респонденты, отвечая на вопрос о первой ассоциации со словом «татуировка», соотносят ее с рисунком на «теле», «красотой», «искусством», «творчеством» и «самовыражением». А у респондентов, не имеющих татуировки и не испытывающих желание их сделать, преобладают ассоциации с «болью», «рок-музыкой», «тюрьмой», «индейцами», «искусством Китая», «армией», «печатью», «клеймом», «ужасом», «грязью», «вызовом», «агрессией», «отвращением», но вместе с этим, могут признавать, что татуировка может быть высокохудожественной, как произведение искусства.
Более давние исследования проводил К. Сандерс и делал акцент на протестном характере татуирования в 80-х гг. ХХ в. Это оправдано тем, что татуирование того времени было тесно связано с протестными байк-, рок- и панкдвижениями, которые позиционировали себя как объединения, оппозиционные социокультурными нормам «большого» общества. Однако исследования последних 20 лет отмежевалось от протестных субкультур, и протестный мотив не является ни единственным в структуре мотивации татуирующих, ни доминирующим, а также изменилась суть протеста: из групповой идеологии он превратился в личную философию.
Исследование Б. Тернера, Ле Бретона и Д. Фоллета явно или имплицитно содержат вопрос – почему и зачем люди делают татуировки?
Объяснительными моделями татуирования отобранных для анализа работ являются традиционная для социологии типология обществ: на одном полюсе «традиционные», где членство требовало обязательного маркирования тела, на другом - современное, которое сравнивается с залом ожидания в аэропорту, где люди - «фланеры», а их взаимодействие является эпизодическим, случайным, необязательным. Концептуальные схемы выстраиваются вокруг понятий «рыночного капитализма», «культуры потребления», «рыночных механизмов регулирования поведения», «протестного поведения», «рефлексивных техник тела» и «обретения свободы» в рамках «конструирования идентичности». Татуирование в современном мире «стало неотъемлемой частью культуры потребления» и более тесно соотносится с коммерческой эксплуатацией сексуальных тем в поп-культуре. Современное татуирование не связано с «обрядами перехода», характерными для традиционных обществ. Консьюмеризм «не породил свою собственную мифологию или потребительскую теологию, поэтому у татуировок нет космических оснований, из которых их значение могло быть подчерпнуто». В связи с этим татуирование в современном обществе больше не является функциональным, татуировки необязательны, декоративны, непостоянны и нарциссичны.
Современное общество - в отличие от традиционного - не санкционирует телесное изменение в связи со сменой социальной позиции, однако социальная функция символического включения посредством телесного изменения во «взрослый» мир сохраняется. В современном обществе такое включение происходит через обретение «авторства» над собственным телом: включение «моего тела» в «тело коллективное» (традиционное общество) против включения «моего тела» в «большое» общество (современное общество) [1].
Несмотря на значительные социальные трансформации, тело остается одним из наиболее стабильных и общезначимых локусов социального.
Телесность – универсальная категория, где тело выступает универсальным проводником идентичности индивида как в традиционных, так и в современных обществах. В связи с этим в современном обществе сфера символического не менее актуализирована, чем в традиционном. Современное татуирование остается генетически связанным с татуированием традиционных обществ, а существование человека в современном мире не исчерпывается консьюмеризмом.
Несмотря на изменения в природе традиционных и современных обществ, изменения в природе и целях татуирования не столь существенны, поскольку основное отличие традиционных обществ от современных сосредоточено не в сфере функционирования символических культурных форм; благодаря этому татуирование как способ символического включения в общество, коммуникации с ним и конструирования идентичности является одним из стабильных во времени способов социализации; в процессе социальных изменений социализация индивидов меняет формы, но не постоянство и суть; татуирование в современном обществе сохраняет преемственность с татуированием в традиционных обществах, функции татуирования претерпевают не столь значительные изменения, как может показаться на первый взгляд. Это объясняется содержательной универсальностью таких социологических категорий, как «тело», «телесность», «идентичность», «социализация», «коммуникация», «социальная структура» и «социальные функции», и неизменностью их взаимосвязи.
Список литературы Социологические исследования татуирования
- Воробьёва Е.С. Формирование мотивации к татуированию как механизм конструирования идентичности, Теория и практика общественного развития, 2016, [http://teoria practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2016/6/sociology/vorobiyova.pdf]. Дата обращения: 01.04. 2017
- Гатиатуллина Э. Р., Орлов А. Н. Влияние субкультур на становление личности в подростковом возрасте: социально-философский анализ (на примере Кабардино-Балкарской Республики). // Молодой ученый. - 2013. - №10. - С. 630-634.
- Горденев М.Ю. Морские обычаи, традиции и торжественные церемонии русского императорского флота. М.: Андреевский флаг, 1992.
- Ельски А. История татуировок, Пер. с польск. Д.А. Подберезского. Мн.: «МЕТ», 2013.
- Олейник А.Н. Тюремная субкультура России: от повседневной жизни до государственной власти. М.: Инфра-М, 2001.