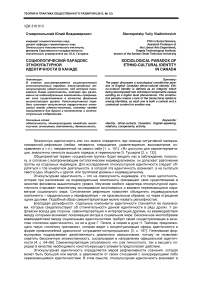Социологический парадокс этнокультурной идентичности в Канаде
Автор: Ставропольский Юлий Владимирович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социологические науки
Статья в выпуске: 12, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается социологический конститутивный парадокс англо-канадской этнокультурной идентичности, под которой понимается такая целостность, которая при разложении на индивидуальные компоненты прекращает свое существование в качестве феномена вышестоящего уровня. Конститутивный парадокс означает отсутствие иерархических отношений между идентичностями, поэтому каждая оказывается для другой и контекстом, и контекстуальным содержанием.
Идентичность, этнокультурная, канадская, англоязычная, отношения, компоненты, деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/14935083
IDR: 14935083
Текст научной статьи Социологический парадокс этнокультурной идентичности в Канаде
Личностную идентичность или «я» можно определить при помощи ситуативной материализованной рефлексии (любви, ненависти, отвращения, удовлетворения, воспоминания, исправления и т.п.), направленной на самого себя [1, с. 151]. «Я» доступно для самоинтерпрета-ции, аналогично личности высшего порядка, в терминологии Э. Гуссерля [2, с. 132].
Общепринятый термин «социальная группа» будет вводить нас в заблуждение, поскольку, в согласии с всепроникающим онтологическим индивидуализмом, он допускает разложение группы на отдельных индивидов. Для исследования этнокультурной идентичности следует обратиться к той конкретной деятельности, в которой эта идентичность возникает, а не пытаться свести одну общность к другой, или групповой уровень к индивидуальному.
Этнокультурная идентичность – это не совокупность индивидов, это такая целостность, которая при разложении на индивидуальные компоненты прекращает свое существование в качестве феномена вышестоящего уровня. Изучение особого характера этнокультурной идентичности открывает перспективу исследования многомерных и взаимно пересекающихся параметров социального мира. Ситуативная рефлексия позволяет объединить индивидуальные компоненты – кардинальные и периферийные – не произвольным образом, но через отрицание одних другими. Подобный образ самоинтерпретации можно назвать рельефностью.
Благодаря рельефности, отдельные компоненты идентичности становятся ее признаками, которые свидетельствуют об отличительности данной идентичности в ряду других. У рефлексии всегда две стороны: самоинтерпретация и интерпретация другими, из взаимодействия между которыми возникает локализация актора в социальном мире. Бесконечное многообразие взаимодействий между социальными идентичностями требует своей концептуализации в качестве «политики идентичности», но не в духе Г. Гегеля, а скорее в духе Ч. Тейлора, предлагающего такую «политику признания», которая ведет к концептуализации сферы идентичности в форме прямолинейной дуальности «отрицания-контротрицания» [3, с. 197]. Гегелевская формулировка подразумевает двойственность диалектики самосознания, потому не позволяет охватить бесконечную множественность, соскальзывая в направлении официальной идентичности [4, с. 64–66]. Самоинтерпретация ситуативного «я» (как личностного, так и высшего порядка) в качестве необходимого конституирующего элемента предполагает действие.
Этнокультурная идентичность определяется мерой рефлексивности сознания, которая может быть большой или малой, в зависимости от своих отношений с конкурирующими либо пересекающимися идентичностями. В этом смысле, этнокультурная идентичность возникает в активно действующем социально-конститутивном поле, формулируется в таких выражениях, которые вторгаются в существующую конфигурацию социального мира и проецируются на новую ситуацию, инициируя комплексную политику репрезентации.
На протяжении любого исторического периода, реципрокные отношения между идентичностями относительно стабильны. На языке теоретических приоритетов можно сказать, что относительная стабильность реципрокных отношений между идентичностями образует историческую эпоху. Стабильность в отношениях между идентичностями поддерживается благодаря институциальному порядку. Следовательно, в основе исторической периодизации лежат инсти-туциальные сдвиги, вызываемые общественными движениями, в которых формирование идентичности переходит свои границы. Для периодов исторических изменений характерна дестабилизация отношений между идентичностями, которые ослабляются до следующей стабилизации. В подобные кризисные периоды идентичности умножаются и вступают в новые отношения между собой. В настоящий момент подобный кризис совершается в англоязычной Канаде и сопровождается умножением ни к чему не привязанных идентичностей. Если пытаться исторически локализовать происходящий демонтаж, то необходимо предположить, что сложившаяся конфигурация предвещает наступление идентификационной политики.
Обычно любая этнокультурная идентичность соотносится с самой собой и с вышестоящей силой, которая ею руководит. Иерархия идентичностей - это универсалия, определяющая конкретную локализацию каждой отдельной общности: либо контекст, либо его содержание. В этой связи, этнокультурные идентичности внутри Канады являются миноритарными. В кризисные периоды, когда происходит ослабление связей или демонтаж, дестабилизируются отношения между общим и частным, которые прежде не представлялись проблемными. Идентичности множатся и вступают в новые отношения, но не упорядочиваются. Отношения между общим и частным перестают быть детерминированными.
Англо-канадская этнокультурная идентичность всегда была проблематичной, не играя значительной роли ни по отношению к Канаде вообще, ни по отношению к глобальному мироустройству. Если при всей ее неуловимости мы зададимся вопросом об отношениях между англоканадской идентичностью, субнациональными и социальными идентичностями гражданского общества, то первую следует считать доминирующей, то есть контекстом для двух других разновидностей идентичности. От определения отношений между англо-канадской идентичностью и иными ее видами, в том числе «внешней» квебекской, зависит то, что она из себя представляет.
Однако, в постановке вопроса об иных идентичностях, англо-канадская выглядит сомнительно. Вместо иерархических отношений между контекстом и его содержанием, мы наблюдаем равноправные отношения, при которых каждая из идентичностей оказывается контекстом для другой, в зависимости от того, какой аспект мы подвергаем тематизации. Например, легитимизировать англо-канадскую идентичность могло бы более справедливое распределение богатства и власти между этнокультурными группами, либо признание важности социальной идентичности в борьбе за гражданские права. В этом случае субнациональная идентичность либо социальная идентичность могли бы служить контекстом англо-канадской идентичности. Если бы она играла важную посредническую роль в отношениях с Квебеком и противостояла бы неолиберальной глобализации, тогда стала бы контекстом для субнациональной и социальной идентичностей, а они - содержанием контекста.
В критические периоды истории отношения развиваются в обоих направлениях и становятся парадоксальными. Можно сформулировать определение: при отсутствии иерархической структуры идентичность парадоксальным образом колеблется между конкретностью и всеобщностью. Когда она не может быть определенным образом локализована внутри иерархической структуры - становится конститутивным образом парадоксальной: идентичности низшего и высшего порядка могут меняться местами. Когда идентичность конкретна, а ее содержание общее, определяемое реципрокным образом, то на основании такого определения невозможно формулировать определение другой общности. Поэтому, вместо того, чтобы переходить на уровень высшего порядка, приходится возвращаться к исходной точке.
Англо-канадская идентичность конститутивно парадоксальна, поскольку ее существование зависит от тех идентичностей, которые подразумевают ее инкорпорирование, вместо того, чтобы становится содержанием в ее контексте. Это означает, что англо-канадская идентичность способна существовать лишь благодаря такому политическому проекту, который оградит ее и от поглощения канадской идентичностью, и от исчезновения. Для такого политического проекта необходима соответствующая воля, ориентированная на возвращение к историческим корням. Трудность реализации такого проекта вызывается конститутивным парадоксом, то есть неспособностью англо-канадской идентичности занять стабильное положение в иерархии идентичностей. Эта неспособность раскрывает новое измерение этнокультурного соответствия.
Ссылки:
-
1. Zaner R. The Context of Self. Athens, 1981.
-
2. Husserl E. Cartesian Meditations. The Hague, 1969.
-
3. Taylor C. Impediments to a Canadian Future // Reconciling the Solitudes. Ed. by G. Laforest. Montréal, 1993.
-
4. Angus I. Primal Scenes of Communication: Communication, Consumerism and Social Movements. Albany, 2000.