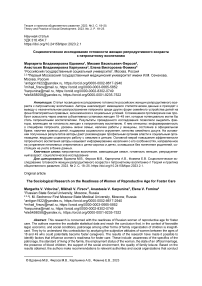Социологическое исследование готовности женщин репродуктивного возраста к патронатному воспитанию
Автор: Вдовина Маргарита Владимировна, Фирсов Михаил Васильевич, Карпунина Анастасия Владимировна, Фомина Елена Викторовна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию готовности российских женщин репродуктивного возраста к патронатному воспитанию. Авторы анализируют имеющиеся статистические данные и приходят к выводу о незначительном распространении патроната среди других форм семейного устройства детей на фоне благоприятных правовых, экономических и социальных условий. Сложившееся противоречие они пробуют осмыслить через анализ субъективных установок женщин 18-49 лет, которые потенциально могли бы стать патронатными воспитателями. Результаты проведенного исследования позволили выделить факторы, влияющие на готовность женщин к патронатному воспитанию. К ним отнесены: информированность о специфике патроната, уровень жизни семьи, наличие работы у женщины, состояние в официальном браке, наличие кровных детей, поддержка социального окружения, качество семейного досуга. На основании полученных результатов авторы дают рекомендации профильным органам власти и социальным организациям, ведущим социальную работу с семьями и детьми. Основной мерой повышения эффективности патронатного воспитания авторы называют информирование населения о его особенностях, направленное на устранение негативных стереотипов о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в банке данных.
Патронатное воспитание, замещающая семья, готовность женщин, репродуктивный возраст, социологическое исследование
Короткий адрес: https://sciup.org/149142143
IDR: 149142143 | УДК: 316.454.7 | DOI: 10.24158/tipor.2023.2.1
Текст научной статьи Социологическое исследование готовности женщин репродуктивного возраста к патронатному воспитанию
Российские органы власти активно ведут работу по решению проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом количество таких детей, потенциально готовых к устройству в замещающие семьи, все еще очень велико1.
Согласно данным ежегодных государственных докладов о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации численность детей, находящихся на государственном попечении и нуждающихся в семейном устройстве, снижается, а доля устроенных в семьи повышается. Тем не менее более 35 тыс. детей, состоящих на учете в банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей и проживающих в интернатах, по разным причинам не могут реализовать свое право жить и воспитываться в семье. Во многом это связано с проблемами здоровья таких детей2. Однако необходимо отметить, что ежегодно растет и количество семей, желающих принять ребенка на воспитание3.
В 2020 г. почти тысяча (908) организаций в России осуществляли подготовку граждан, выразивших желание принять ребенка в семью, а более 3 тыс. организаций предоставляли им медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую и социальную помощь. Функционирует государственная система организаций социального обслуживания, в том числе и интернатных учреждений. На 1 апреля 2022 г. в стране действовало 1127 организаций для детей-сирот, из них: 551 – в ведении социальной защиты, 440 – в сфере образования; 126 – в сфере здравоохранения; 10 – некоммерческие организации, в том числе 3 религиозные4. Расходы на обеспечение деятельности всех этих организаций очень велики.
Замещающие семьи являются менее затратными для государства, чем интернатные учреждения. В целом очевидно, что эффект от устройства в семьи огромен для всех сторон – и для ребенка, и для семьи, и для государства. Возможно, не все формы устройства оказываются приемлемыми для самих семьи. Семейный кодекс РФ (далее – СК) устанавливает 4 его основные формы: безвозмездные (усыновление (удочерение), опека/попечительство) и возмездные (приемная семья, патронатная семья). Среди этих форм патронат является самой «простой».
Специфика патроната – разделение прав и обязанностей между семьей и органом опеки и попечительства, которое устанавливается договором о патронатном воспитании. Патронатная семья имеет целый ряд преимуществ: наличие договора с разграничением обязанностей, выплаты воспитателю, внесение сведений о его деятельности по воспитанию приемных детей в трудовую книжку. Это формирует профессионализм патронатного родителя, прошедшего необходимую подготовку, и высокий уровень его ответственности. Именно патронат позволяет устроить в семьи тех детей, у кого низкие шансы на усыновление/удочерение (например, ребенок юридически «не свободен», т. е. в отношении него кровный родитель не лишен родительских прав). Патронат – это также и шанс для семей с невысоким доходом, небольшой жилплощадью, для пар, не состоящих в браке, или одиноких женщин. Его можно считать такой дополнительной формой, когда по объективным причинам ребенок не может быть быстро передан на усыновление (удочерение) или под опеку. От другой формы возмездной опеки – приемной семьи – патронат отличается тем, что его можно установить в кратчайшие сроки, при экстренном изъятии ребенка из семьи, например из-за угрозы его жизни или здоровью. Патронат соответствует традиционным семейным ценностям, способствует благоприятной динамике социализации и формированию социально одобряемого поведения.
В соответствии со ст. 123 СК использование патроната относится к компетенции регионов, при этом ст. 155.1 указывает, что помещение детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должно проводиться при отсутствии возможности передачи в семью на усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную либо в патронатную семью. Согласно ст. 145 СК передача ребенка в патронатную семью является формой устройства ребенка под опеку и попечительство и регламентируется Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» № 48-ФЗ1.
По данным портала «Усыновите.ру», законы о поддержке патронатного воспитания приняты в 43 регионах Российской Федерации. Обычно эти нормативно-правовые акты включают схожие положения, закрепляющие основные понятия, рассматривающие патронат как форму социальной помощи ребенку, который нуждается в государственной поддержке, устанавливающие форму заключаемого договора и условия его оформления, требования к патронатному воспитателю. Во многих регионах установлено предельное количество воспитанников, которых может принять один воспитатель (обычно не более 3). То есть патронатная семья выступает одной из форм устройства, имеющей целый ряд существенных достоинств, и гипотетически она должна быть наиболее распространенной. Но среди устроенных детей лишь незначительная часть помещается в патронатные семьи. По данным федерального статистического наблюдения за выявлением и устройством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2018 г. только 0,38 % устроенных детей передано в патронатные семьи (в предварительном устройстве – 0,02 %). В 2021 г. это количество еще уменьшилось: всего 260 детей состояло на патро-натном воспитании. Регионами-лидерами по количеству детей, находящихся на патронатном воспитании, являются Краснодарский край, Волгоградская область, Республика Башкортостан, Самарская область, г. Москва2.
Мы видим явное противоречие: патронатное воспитание обладает неоспоримыми преимуществами, для его развития созданы правовые и экономические условия, более 35 тыс. детей нуждаются в семьях и более 20 тыс. семей состоят на учете как желающие принять ребенка на воспитание, но, несмотря на это, даже не во всех регионах Российской Федерации развит институт патронатного воспитания.
Анализ ситуации требует проведения масштабных всероссийских исследований. Их реализации, несомненно, должно предшествовать зондирование социальных условий. Поэтому настоящее исследование, носящее пилотажный характер, посвящено выявлению возможных причин низкой распространенности патроната среди остальных форм семейного устройства. Анализу подвергнуты мнения женщин, так как, согласно данным многочисленных исследований, именно женщина имеет больше ответственности в вопросах воспитания детей3.
Основным исследовательским направлением стал поиск ответа на вопрос: «Какова степень готовности женщин репродуктивного возраста как субъекта принятия решений к патронат-ному воспитанию и какие факторы на это влияют?» Выбор такого направления обусловлен не только статистическими данными, но и низкой степенью изученности вопроса.
О патронатном воспитании в России известно давно, а имеющиеся публикации, хотя и немногочисленные, освещают разные его аспекты. Так, Ю.А. Авдеев, В.А. Гавриленко, А.Б. Доиль-ницын проводят анализ исторических источников и приходят к выводу, что патронат известен в нашей стране с XVI в. Активное развитие он получил в первые годы советской власти. Ученые указывают, что в СССР уже в 1942 г. более 37 тыс. детей находились на патронате, а в 1945 г. – 278 тыс. Вплоть до отмены патроната в 1968 г. он выполнял важную функцию защиты прав и социализации детей (Авдеев и др., 2020).
Эти же аспекты освещены в работе Ю.В. Чесноковой (2019), которая анализирует этапы становления патроната в России. Исследователь указывает, что патронат одновременно является и новой формой устройства, появившейся в законодательстве современной России последней, и в то же время имеет многовековую историю.
Г.Ф. Резяпова (2022) дополняет определение патронатного воспитания: это форма временного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью профессиональных воспитателей без наделения их статусом законных представителей с целью обеспечения условий их воспитания и гармоничного развития.
Зарубежный аналог патронатного воспитания – так называемые фостерные (или фостерские) семьи (Чекулаев, Кравчук, 2018). Среди посвященных этому вопросу исследований стоит отметить работу о фостерных практиках в России (Носкова и др., 2016), где показана эффективность фостер-ных сообществ на примере реализации проекта «Детская деревня – SOS» в Томилино. В работe Т.О. Арчаковой (2014) изучены проблемы адаптации выпускников фостерных семей. С.М. Щербина (2015) анализирует социально-психологические особенности матерей в фостерных семьях.
В социологических работах, посвященных социальному институту семьи, особое внимание уделяется проблемам межпоколенческих отношений (Вдовина, 2009; Вдовина, 2010).
С социологической точки зрения патронатное воспитание изучено в первую очередь как часть института устройства детей, например в работах И.И. Осиповой1, Н.В. Панкратовой2, Т.Н. Отделки-ной3, О.В. Бессчетновой4, Т.С. Смак5. Отдельно патронатное воспитание рассматривается очень редко, например Э.Р. Алексеева изучала его как институт социализации детей-сирот6. Однако с 2008 г. социологических диссертаций по этой тематике больше защищено не было. Социологических работ о готовности человека выступить в роли патронатного воспитателя нами не обнаружено вовсе. Учитывая небольшую распространенность патронатного воспитания в Российской Федерации, низкую степень разработанности темы на фоне признания эффективности этой формы устройства, можно сделать вывод о высокой актуальности и новизне представленного исследования.
Наше эмпирическое исследование было проведено в 2021 г. Сбор данных осуществлен методом анкетного опроса c использованием сервиса Google Forms. Выборка носила целенаправленный характер: просьба заполнить анкету направлялась по контактным данным (адреса электронных почт), которые были оставлены посетителями форума об усыновлении в России в разделах «Задать вопрос», «Подписаться на новости». В итоге было заполнено 133 анкеты, из которых отобрано 100. Признаком отнесения к выборочной совокупности являлся женский пол, репродуктивный возраст и отсутствие усыновленных/приемных детей. 30 % опрошенных находятся в возрасте до 20 лет, 25 % – 21–25 лет, 13 % – 26–30 лет, 15 % – 31–40 лет, 17 % – 41–50 лет. Выборочная совокупность обладает признаками репрезентативности в исследовании установок женщин репродуктивного возраста по заявленной теме.
Состоят в браке 39 % респондентов, 46 % не состоят, 15 % проживают совместно с партнером без заключения брака. Имеют высшее образование 31 %, среднее профессиональное – 30 %, ученую степень – 1 %, 38 % являются обучающимися в момент прохождения опроса. Среди уже имеющих образование указали его профиль: 73 % – социально-гуманитарное, 19 % – техническое, 6 % – экономическое, 2 % – другие варианты.
74 % опрошенных работают, среди них 68 % являются подчиненными, 13 % – руководителями, остальные – самозанятые. Свой уровень жизни считают достаточно высоким 55 %, средним – 32 %, низким – 10 %, и 3 % затруднились ответить.
Вопрос о регионе проживания был обязательным, но открытым, возможно, поэтому почти треть респондентов указали локализацию в формате, не позволяющем использовать ее для анализа (например, Ивановка, Край и др.). Среди остальных респондентов 14 % указали регионом проживания Москву, 8 % – Санкт-Петербург, остальные распределились по 1–2 % по таким городам, как Владивосток, Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Тольятти, Ростов-на-Дону, Пермь, Волгоград, Калининград и др. То есть география проживания респондентов очень широкая, но из-за неточностей в ответах на открытый вопрос невозможно полностью проанализировать охват различных регионов России. Поэтому переменная «регион проживания» не учитывалась при анализе.
Целью исследования стало определение уровня готовности проживающих в разных регионах России женщин репродуктивного возраста7, демонстрирующих интерес к принятию ребенка на воспитание через посещение специализированных сайтов и форумов, к роли патронатного воспитателя.
В работах социологов готовность определяется как некое состояние предрасположенности субъекта к чему-либо, к ситуации или действию1. Готовность к патронатному воспитанию в нашем исследовании оценивается через:
– наличие у респондента определенных знаний, умений, навыков, а также способности к противодействию возникающим в ходе выполнения действия препятствиям;
– приписывание выполняемому действию некоего личностного смысла.
Нами проведена эмпирическая проверка информированности о специфике патронатного воспитания (блок 1), уровня готовности совершать действия, оценки барьеров для этого (блок 2), влияния социального окружения (блок 3), психолого-педагогической компетентности (блок 4), влияния экономических факторов (блок 5), оценки эффективности патронатного воспитания (блок 6).
Блок 1
В начале анкеты был размещен вопрос: «Патронатное воспитание – это одна из форм устройства детей в семьи, при которой патронатный воспитатель получает ежемесячную плату от государства на каждого приёмного ребёнка. Вы знали, что такое патронатное воспитание?» Такая формулировка вопроса была допущена специально, чтобы сформировать у респондента общее представление о патронатном воспитании и не допустить ответов на вопросы тех, кто ничего не знал о нем. Но даже с предварительным информированием только 63 % опрошенных ответили «да», то есть уровень информированности изначально невысокий. Это же подтверждают и ответы на вопрос о достаточности информации о патронатном воспитании, на который только 11 % ответили утвердительно, 21 % затруднились ответить, а 68 % указали, что информации недостаточно.
Уровень информированности также был проконтролирован вопросом об отличии понятий «ребенок, оставшийся без попечения родителей» и «ребенок-сирота». 83 % считают, что эти понятия отличаются, 11 % – что отличий нет, 6 % затруднились с ответом. Иными словами, примерно 10–20 % опрошенных имеют практически нулевой уровень информированности о том, что такое патронатное воспитание.
Блок 2
Готовность к совершению действий оценивалась прямыми и косвенными вопросами. Готовы стать патронатным воспитателем 39 % (при этом однозначно положительный ответ «да» дали только 9 % опрошенных, 30 % – «скорее да»), не готовы – 49 %, 12 % затруднились с ответом. На вопрос «Смогли бы вы, будучи патронатным воспитателем, взять в семью ребенка с инвалидностью?» 21 % ответили положительно (9 % – «да»), 59 % – отрицательно, затруднились с ответом – 20 %.
Высокий уровень готовности имеют не более 10 % опрошенных, средний – 20–30 %, низкий – более 50 %. Учитывая общий невысокий уровень готовности, были проанализированы мнения о причинах нежелания людей брать ребенка на патронатное воспитание.
Ответы показали: экономический фактор – один из самых главных для респондентов с любым уровнем готовности. Также респонденты указывают на факторы психологические (подверженность стереотипам о плохой наследственности, боязнь ответственности, привязанности) и социальные (зависимость от мнения социального окружения). Интересно, что меньше всего женщины думают о самом ребенке, его комфорте и стрессе после расставания. В то же время они предполагают, что основной причиной согласия стать патронатным воспитателем выступает как раз благополучие самого ребенка, так как вариант ответа «хотят помочь детям» является явно преобладающим во всех группах (от 61 % до 86 %), а вариант «патронатный воспитатель получает хорошую зарплату» не превышает 9 %.
Следовательно, вне зависимости от уровня готовности респонденты считают, что основная цель патроната – помощь ребенку, которая кажется им финансово очень затратной для самого воспитателя. Его зарплата не считается при этом достаточной причиной для повышения готовности.
На вопрос «Какую сумму, на ваш взгляд, получает патронатный воспитатель в месяц?» больше половины респондентов ответили 10–15 тыс. руб. Поскольку вопрос был открытым, респонденты указывали текстом: «мало», «сколько ни плати, денег не хватит», «копейки», «только в Москве нормально платят, остальные выживают». Такие ответы также могут свидетельствовать о низкой информированности граждан по данному вопросу2.
Блок 3
К основным социальным факторам готовности стать патронатным воспитателем в нашем исследовании отнесены наличие детей и влияние социального окружения. Анализ данных показывает наличие связи между отсутствием детей и низкой готовностью стать патронатным воспитателем: среди тех, кто не готов к патронату, 82 % не имеют детей.
Обнаружена связь и между количеством собственных детей и уровнем готовности к роли патронатного воспитателя. Чем больше детей у субъекта, тем выше у него готовность к приему еще одного ребенка. Однако наибольшее количество детей у тех, кто затруднился с ответом. Вероятно, к патронату более готовы те женщины, у которых 1–2 ребенка. Третий ребенок может оказывать обратное влияние. Но многодетность в то же время повышает готовность взять в семью ребенка с инвалидностью, как показало наше исследование.
Социальное окружение оказывает сильное влияние на женщин. Среди тех, кто готов стать патронатным воспитателем, доля уверенных в поддержке родственников составляет 72 %, а среди тех, кто не готов, – 27 %. И наоборот, среди готовых к патронату только 14 % тех, кто уверен, что родственники не поддержат, а среди неготовых – 43 %.
Анализ данных также показывает, что выше готовность стать патронатным воспитателем у работающих женщин (в 1,5–2 раза), при этом руководящая позиция снижает уровень готовности. Нахождение в официальном браке незначительно повышает готовность (в пределах 1–10 %).
Интересна взаимосвязь готовности к патронату с возрастом. Во-первых, наименьший уровень готовности – в группе женщин до 20 лет (68 % неготовых), наивысший – в группе 31–40 лет (73 % выражающих готовность). Во-вторых, вопреки нашему предположению, женщины после 40 лет чаще затрудняются с ответом, что, возможно, связано уже с жизненной мудростью и склонностью к взвешенным решениям. В-третьих, в отношении ребенка с инвалидностью у женщин всех возрастов преобладает позиция «скорее нет», но женщины до 30 лет настроены более негативно.
Блок 4
Анализ данных показал, что доля женщин с высокой готовностью к патронатному воспитанию составляет 42 % среди имеющих высшее образование, 38 % – среднее профессиональное. Здесь, возможно, сказывается также и влияние возраста. Женщины с техническим образованием показывают большую готовность (56 %), чем гуманитарии (33 %). Направление образования не влияет на готовность взять ребенка с инвалидностью. Но наиболее тесные связи обнаружены с ожиданием поддержки семьи: среди гуманитариев 49 % тех, кто в ней уверен, среди технарей – 23 %. Следовательно, женщины с техническим образованием больше рассчитывают на свои силы, с гуманитарным – на социальное окружение. Мнения женщин с другими профилями образования (экономическим, аграрным) распределились равномерно и не позволяют выявить какие-то тенденции.
Роль семьи всегда значительна для женщины, а климат внутри нее во многом определяет ее социальное самочувствие. В нашем исследовании среди тех, кто не проводит время с семьей, 75 % указали, что не готовы стать патронатными воспитателями. То есть совместный досуг – фактор повышения готовности взять ребенка на воспитание.
Блок 5
Нами не обнаружено связи между оценкой уровня жизни и готовностью стать патронатным воспитателем. Что касается размера зарплаты патронатных воспитателей, 89 % уверены, что она должна начинаться от 31 тыс. руб. (остальные 11 % затруднились с ответом). Среди тех, кто готов стать патронатным воспитателем, 57 % считают сумму от 30 до 50 тыс. руб. приемлемой, а среди неготовых – только 13 %. Чем ниже степень готовности, тем более высокую сумму выплаты респонденты считают подходящей.
Блок 6
Последний блок был посвящен оценке женщинами эффективности системы патронатного воспитания. 80 % опрошенных считают, что чаще всего патронатные семьи сталкиваются с психологическими проблемами, 63% – материальными.
Среди респондентов, оценивших свой жизненный уровень как высокий, основными считают психологические проблемы около 90 %, средний – 73 %, низкий – 63 %. Другими словами, чем выше уровень жизни, тем больше внимания к психологическим проблемам. Чем ниже жизненный уровень, тем больше доля тех, кто выделяет материальные и жилищно-бытовые проблемы как основные.
Подобная картина формируется у состоящих и у не состоящих в браке: первые в основном выделяют психологические проблемы (79 %), а вторые – материальные (92 %).
Для повышения эффективности института патронатного воспитания большинство опрошенных указывают на меры информационного характера. Интересно, что меры материального характера стоят на последнем месте. Также замечено, что меньше значения уделяют материальному фактору более молодые респонденты (55 % среди лиц моложе 25 лет против 18 % среди тех, кто старше 30 лет), замужние (25 % против 42 % среди незамужних) и респонденты с высоким жизненным уровнем (22 % против 63 % среди лиц, оценивших его как низкий).
В отношении поддержки патронатных семей 58 % опрошенных указали, что за ней нужно обращаться в органы опеки и попечительства, 16 % – в социальную службу, 1 % – к педагогам (воспитателям), 25 % затруднились с ответом. При этом 48 % респондентов выражают готовность обращаться за помощью в социальные службы, 44 % указывают, что не готовы, остальные затруднились с ответом. Чем выше достаток семьи, тем ниже готовность обращаться за помощью: вариант «точно нет» выбрали 44 % тех, кто указал свой уровень жизни как высокий, и 13 % – как низкий.
Проведенное исследование показывает, что среди женщин есть достаточное количество тех, кто потенциально мог бы стать патронатной матерью. На наш взгляд, необходим также анализ мнений лиц, имеющих опыт патронатного воспитания, специалистов по социальной работе с семьями и представителей органов исполнительной власти, влияющих на принятие решений в сфере семейного устройства детей. Так наше исследование определяет возможные точки поиска для дальнейших масштабных исследований, которые помогли бы комплексно осветить проблемы в этой сфере.
Таким образом, по результатам выполненного нами исследования установлено, что информированность женщин о специфике патронатного воспитания является невысокой.
В нашей выборке оказалось примерно 10 % женщин с максимальным уровнем готовности взять ребенка на патронатное воспитание, 30 % – со средним, остальные – с низким.
Исследование установок женщин показало, что основными барьерами они считают экономический фактор (уверенность в нехватке выплат патронатным воспитателям), психологические переживания и сдерживающее влияние социального окружения. Но основной причиной согласия они называют не выплаты, а желание помочь детям. Иначе говоря, женщины явно признают социальную значимость патроната, но считают недостаточность финансового обеспечения основной причиной отказа от этой формы устройства. Минимальный размер выплаты воспитателям, по мнению опрошенных, должен начинаться от 30 тыс. руб.
Отмечается, что чем выше уровень жизни семьи, тем больше внимания уделяется психологическим проблемам патроната. Женщины из семей со средним и низким уровнем больше беспокоятся о финансовых и жилищно-бытовых проблемах.
Самый высокий уровень готовности к патронату отмечен у работающих женщин в возрасте 31–40 лет, состоящих в официальном браке, имеющих 1–2 детей. Отсутствие кровных детей резко снижает такую предрасположенность. Многодетные матери имеют меньшую степень готовности к патронату в целом, но в то же время не против принять ребенка с инвалидностью.
Женщины подвержены влиянию социального окружения. Его поддержка сильно повышает уровень готовности к тому, чтобы стать патронатным воспитателем. Имеет влияние и качество семейного досуга: женщины, которые проводят время с семьей, демонстрируют более высокий уровень готовности к патронату.
Для повышения эффективности патронатного воспитания женщины рекомендуют усиление информирования, чтобы снизить влияние негативных стереотипов в отношении детей-сирот и повысить осведомленность общества о работе патронатных воспитателей.
Полученные результаты позволяют дать рекомендации органам власти, отвечающим за развитие института замещающих семей, и социальным службам, сопровождающим семьи: проводить информационные компании в СМИ и социальных сетях о преимуществах патронатного воспитания, размерах выплат семьям, адресно работать с целевой группой работающих замужних женщин 31–40 лет, имеющих кровных детей, а также с их социальным окружением, усилить социально-психологическую работу с семьями, содействовать повышению качества семейного досуга, вовлекать семьи в совместный полезный досуг.
Расширение этих мер, скорее всего, позволит увеличить долю детей, находящихся на воспитании в патронатных семьях, и снизить количество социальных сирот, проживающих в интернатных учреждениях.
Список литературы Социологическое исследование готовности женщин репродуктивного возраста к патронатному воспитанию
- Авдеев Ю.А., Гавриленко В.А., Доильницын А.Б. История развития патронатного воспитания в России // Правовая политика и правовая жизнь. 2020. № 3. С. 124-130.
- Арчакова Т.О. Социально-психологическая адаптация выпускников фостерных семей: образование и работа // Современная зарубежная психология. 2014. Т. 3, № 2. С. 92-106.
- Вдовина М.В. Межпоколенческие отношения: причины конфликтов в семье и возможные пути их разрешения // Знание. Понимание. Умение. 2009. № 3. С. 3.
- Вдовина М.В. Функциональные изменения межпоколенческого конфликта в семье: монография. Москва, 2010. 273 с.
- Носкова А.В., Титова М.А., Васильев А.А., Кишкин М.И. Дети вне семьи: фостерные практики в России // Социологические исследования. 2016. № 8 (388). С. 54-64.
- Резяпова Г.Ф. О некоторых проблемах патронатного воспитания в Российской Федерации // Современные проблемы и перспективы развития частноправового и публично-правового регулирования: сборник материалов V Международной научно-практической конференции / под ред. Е.В. Ахтямовой. Уфа, 22 апреля 2022 г. Уфа, 2022. С. 230-233. https:.
- Чекулаев С.С., Кравчук А.О. Сравнительно-правовой анализ института патронатной семьи в России, странах запада Европы и США // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 12 (97). С. 196-202. https:.
- Чеснокова Ю.В. Формирование института патронатного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей // Право и государство: теория и практика. 2019. № 10 (178). С. 44-46.
- Щербина С.М. Анализ неосознанных паттернов поведения приемных матерей в фостерных семьях // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 111. С. 113-133.