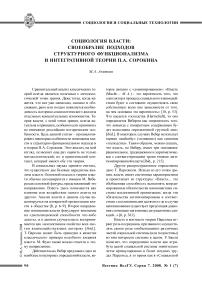Социология власти: своеобразие подходов структурного функционализма и интегративной теории П. А. Сорокина
Автор: Анипкин Михаил Александрович
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Социология и социальные технологии
Статья в выпуске: 1 (7), 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14974208
IDR: 14974208
Текст статьи Социология власти: своеобразие подходов структурного функционализма и интегративной теории П. А. Сорокина
Сравнительный анализ классических теорий всегда является полезным с методологической точки зрения. Даже тогда, когда кажется, что все уже написано, сказано и обосновано, рано или поздно появляется необходимость историко-социологического анализа отдельных концептуальных компонентов. Теория власти, с моей точки зрения, всегда актуальна в принципе, особенно если принимать во внимание российские исторические особенности. Цель данной статьи – проанализировать некоторые особенности понимания власти в структурно-функциональном подходе и в теории П.А. Сорокина. Этот анализ, на мой взгляд, позволяет еще раз оценить не только методологический, но и практический контекст, который имеют обе эти теории.
В социальных науках принято считать, что существуют две базовые парадигмы анализа власти. Основной подход к теории власти обычно ассоциируется с именем М. Вебера как основной фигуры, представлявшей это направление. Власть здесь понимается как влияние или воздействие одного агента на другого. Анализ власти в данном случае акцентируется на конкретной организации власти в обществе [8, р. 6–9]. Второе направление понимания власти фокусирует внимание на «диспозиционной способности что-либо делать», и в данном случае власть воспринимается как «коллективное свойство всех систем взаимодействующих акторов» [ibid.]. Т. Парсонс может быть приведен в качестве классического примера подобного видения власти. М. Фуко также можно отнести к этому направлению.
Действительно, Вебер предложил одно из наиболее популярных определений власти, ко- торое связано с «доминированием»: «Власть (Macht. – М. А.) – это вероятность того, что один актор в процессе социального взаимодействия будет в состоянии осуществлять свою собственную волю вне зависимости от того, на чем основана эта вероятность» [10, р. 53]. Что касается господства (Herrschaft), то оно определяется Вебером как «вероятность того, что команда с конкретным содержанием будет выполнена определенной группой лиц» [ibid.]. В некоторых случаях Вебер использует термин «authority» («влияние») как синоним «господства». Таким образом, можно сказать, что власть, по Веберу, имеет три основания: рациональное, традиционное и харизматическое с соответствующими тремя типами легитимизированной власти [ibid., р. 215].
Другое распространенное определение дано Т. Парсонсом. Исходя из его точки зрения, власть имеет системные характеристики и проистекает из структуры: «Власть... это обобщенная способность выполнять координированные обязательства компонентами системы коллективной организации, когда эти обязательства легитимизированы в соответствии с коллективными целями и где в случае неповиновения существует презумпция давления с помощью негативных ситуационных санкций...» [6, р. 361].
Власть в контексте теории Парсонса играет роль посредника, призванного осуществлять своего рода «мобилизацию» различных частей социальной системы (или подсистемы) во имя интересов системы в целом. У. Бакли полагает, что определение власти как атрибута целой социальной системы значительно четче артикулировано в более поздних трудах Парсонса, в то время как в «Социальной системе» (1951) Парсонс, скорее, ближе к веберовской традиции анализа соотношения «влияния» («авторитета») и «власти» [2, р. 183]. В частности, в этой работе Парсонс прямо оперирует терминологией М. Вебера: «Проблема контроля политической власти – это, прежде всего, проблема интеграции, выстраивания власти индивидов и субколлективов в стройную систему легитимизированного влияния (authority. – М. А.), где власть прочно связана с коллективной ответственностью» [7, р. 127].
В то же самое время представление о власти как обобщенной способности системы реализовывать действие также весьма очевидно в «Социальной системе». Это особенно проясняется, когда Парсонс развивает мысль о двух формах обобщения власти – экономической и политической [ibid., р. 123]. В экономической форме обобщения власти деньги играют ключевую роль, поскольку являются институционализированным явлением [ibid., р. 124]. Говоря о политической власти, Парсонс воспринимает ее как обобщенное средство интеграции различных частей всей социальной системы [ibid., р. 126–127].
-
Н. Луманн продолжил традицию анализа власти в контексте функционалистского подхода. Исходя из его точки зрения, власть также носит обобщенный характер, но уже представляется как обобщенное средство коммуникации, которое служит для уменьшения сложности социального мира [4, р. 55]. Иными словами, весь комплекс отношений в обществе настолько усложнен, что индивидуальная способность управляться со всем этим представляется весьма проблематичной. Мы можем лишь только выбирать различные части этого социального мира (процесс дифференциации), а затем соединять их с тем выбором, который сделали другие участники социального процесса. Чтобы осуществить эту связь между различными выборами, сделанными нами и другими людьми, необходимы специфические средства, которые могли бы социально регулировать процесс многообразия этих выборов и, таким образом, снижать усложненность всего социального мира. Власть, наряду с деньгами, любовью и истиной, является, по Луманну, одним из этих средств [ibid., р. 40–49]. Исходя
из его теории, власть представляется как легитимизированная политическая власть.
Следует еще раз подчеркнуть, что очевидна основная отличительная черта функционалистского подхода к власти: власть воспринимается как нечто работающее во имя поддержания целостности системы с четко институционализированными ценностями и целями.
Оба указанные выше направления, по мнению Бакли, имеют теоретические проблемы, связанные с употреблением терминов. Его критика главным образом касается понимания терминов «власть» (power) и «влияние» (authority). Так, например, Бакли полагает, что институционализированная власть и легитимизированное влияние являются неотъемлемыми частями той же самой системы, то есть они координируют различные аспекты функционирования этой социальной системы. Думается, следует согласиться с тем, что, по мнению Бакли, влияние не является специфической формой власти, так же как и власть не является подтипом влияния [2, р. 186]. Согласно его точке зрения, власть можно определить как «контроль над действиями других с целью реализовать чьи-то интересы без согласия других, против их воли или понимания того, что происходит» [ibid.]. Реализация власти в данном случае может сопровождаться насилием. В то же самое время, напротив, влияние – это «руководство или контроль над поведением других с целью реализации коллективных целей, основанное на определенной форме информированного согласия» [ibid.]. Иными словами, влияние – это добровольное подчинение. Власть может быть институционализирована в социальной системе, но этот факт вовсе не означает, что она легитимизирована. В то время как влияние всегда легитимизировано [ibid., р. 197].
Важным представляется подчеркнуть здесь, что как институционализированная власть, так и легитимизированное влияние могут существовать одновременно в социальной системе как ее качества. Вопрос заключается лишь в том, какова степень, «с которой... социальные институты и соответствующие целевые ориентации и ценности находятся под воздействием отношений влияния (authority. – М. А.) или власти (power. – М. А.)» [ibid., р. 200]. В случае когда преоб- ладают отношения, которые продуцируют и поддерживают групповые цели и ценности, мы можем говорить о преобладании отношений влияния (authority). В случае когда определяющими являются интересы и цели определенных разрозненных групп, соперничающих между собой, можно говорить о доминирующих отношениях власти (power) в социальной системе. Таким образом, легитимизированное влияние и власть, основанная на насилии, всегда существуют в обществе, но что-то одно из них преобладает в определенный момент жизни общества.
П.А. Сорокин посвятил целую книгу своему видению власти, точнее соотношения власти и морали [9]. Проблема функционирования власти рассматривается им через дихотомию «власть – моральные нормы». В соответствии с его подходом, власть имморальна и некомпетентна по своей сути. Для иллюстрации этой сентенции Сорокин осуществил скрупулезный анализ личных биографий нескольких десятков исторических личностей: монархов, президентов, политических деятелей и т. д. Это позволило ему прийти к следующему выводу: прежде всего, среди этой группы людей явно наблюдается значительно более высокий процент ментальных проблем и психических заболеваний в целом, нежели среди обычной публики. Кроме того, в соответствии с наблюдениями Сорокина, среди правящей элиты также наблюдается более высокий процент криминального поведения. Также, по его мнению, крупные представители власти часто оказываются некомпетентными и не готовыми слушать советы специалистов. Как следствие – политическая власть является имморальной, безответственной и деструктивной.
Как известно, Сорокин предлагает поставить власть под контроль «высоконравственных представителей своих обществ», например ученых, экспертов, духовных лидеров и т. д. Иными словами, он настаивает на том, что в современном сложном мире роль интеллектуалов во власти должна быть значительно более весомой, нежели это было раньше. Принятие решений в современной политике должно быть основано не только на глубокой научной, но и на моральной экспертизе. Несмотря на то, что некоторые аспекты этой книги могут показаться несколько экстрава- гантными, основная идея о том, что интеллектуальная элита должна играть более значительную роль в отношениях власти, представляется весьма актуальной. Действительно, мне думается, что вовлечение интеллигенции в процесс принятия решений на политическом уровне является одним из явных показателей системной интеграции в современном обществе. Эта идея была также высказана английским социологом Ф. Паркиным, когда он в 1972 г. привлек внимание научной общественности к проблеме интеграции советского общества, делая вывод о том, что в ситуации политической маргинализации интеллигенции в СССР распад всей системы является лишь вопросом недалекого будущего [5]. Он действительно оказался прав.
Я глубоко убежден в том, что если бы партия в 1970-е гг. существенно обновила весь свой руководящий состав в смысле смены поколений, а также отошла бы от жесткого квотирования по социальному принципу, можно было бы не только предотвратить распад страны, но и сделать серьезный прорыв в экономическом и материально-техническом планах. Думаю, в связи с этим следует согласиться с мнением, что Советский Союз проиграл в «холодной войне» не в силу экономических или военно-стратегических причин. В действительности он серьезно проиграл соперничество элит. Это основная причина.
Сложившаяся ситуация в отношениях власти в Советском Союзе в 1960–1970-е гг. требовала соответствующего теоретического обоснования не только в рамках марксистско-ленинского подхода. Действительно, послевоенное улучшение уровня жизни и относительно стабильное, без потрясений, функционирование советского общества требовали дополнительного концептуального объяснения. Очевидно, что в теоретико-идеологическом плане структурно-функциональная теория Т. Парсонса пришлась как нельзя кстати, поскольку идеально обосновывала необходимость удержания существующего состояния социальной системы.
В частности, известный американский социолог А. Голднер прямо отмечает, что в Советском Союзе тогда проявился явный интерес к Парсонсу и структурному функционализму в целом [3]. Именно в 1960-е гг. совет-
М.А. Анипкин. Социология власти: своеобразие подходов П.А. Сорокина
ские социологи начинают проходить стажировки на Западе, часто в США, где структурнофункциональный анализ был более популярен, чем, например, в Великобритании 1. Вся ирония заключается в том, что «буржуазная» концепция Парсонса великолепно подходила для обоснования установившегося порядка вещей в СССР в 1960–1970-х годах. В связи с этим понятно, что его теоретическая конструкция оказалась более востребованной в советское время, нежели концепция П.А. Сорокина.
Если суммировать различия между идеями Парсонса и Сорокина в их понимании власти, следует еще раз отметить то обстоятельство, что Парсонс трактует власть как интегрирующую силу, которая держит вместе все структурные элементы социальной системы. Ценности в этом контексте могут быть интерпретированы как некие внутренние качества самой власти. Для Сорокина, напротив, власть сама по себе является, скорее, деструктивной силой, чем конструктивной, и ценности в нее не включены. Поэтому ценности (прежде всего моральные) должны быть привнесены во власть, чтобы ограничить деструктивную и усилить конструктивную сторону власти. Из этого следует, что люди сами должны решать, какие именно и как моральные ценности инкорпорируются во властные отношения. По его мнению, единственный способ инкорпорировать ценности в отношения власти – это позволить интеллектуалам и моральным лидерам стать полноправной частью этих отношений. В его теории личность является важнейшим элементом во всей системе социальных отношений. Если говорить о конкретной форме функционирования власти, то очевидно, что логика Сорокина и Парсонса в данном случае позволяет нам сделать следующий вывод: взгляд Парсонса на власть имеет тенденцию в большей степени обосновывать существование унитарного государства, в то время как Сорокин более склонен к обоснованию государства, основанного на плюралистических принципах в широком смысле этого слова.
Недостатки классического функционалистского подхода всегда широко обсуждались в социально-политических науках. В 80-х гг.
ХХ в. стало себя проявлять направление неофункционализма [1], целью которого является преодоление «слабых» сторон классического «нормативного функционализма» (это, прежде всего, «метафизичность», недостаточное внимание к развитию и игнорирование личности). В этой ситуации сравнительный анализ различных аспектов теорий П. Сорокина и Т. Парсонса, на мой взгляд, представляет особый интерес для российской социологии, поскольку оба этих классика играют особую роль в критико-аналитическом контексте отечественной социологической науки.
Список литературы Социология власти: своеобразие подходов структурного функционализма и интегративной теории П. А. Сорокина
- Alexander, J. Neofunctionalism and after/J. Alexander. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 1998.
- Buckley, W. Sociology and modern systems theory/W. Buckley. New Jersey: Prentice Hall, 1967.
- Gouldner, A. The coming crisis of Western sociology/А. Gouldner. L.: Heinemann, 1971.
- Luhmann, N. Trust and power/N. Luhmann. Chichester: John Wiley & Sons, 1973.
- Parkin, F. System contradictions and political transformation/F. Parkin//European journal of sociology. 1972. № 1, Vol. XIII. P. 45-62.
- Parsons, T. Politics and social structure/Т. Parsons. N. Y.: The Free Press, 1969.
- Parsons, T. The social system/Т. Parsons. L.: Lowe and Brydon Ltd, 1951.
- Scott, J. Power/J. Scott. Cambridge: Polity Press, 2001.
- Sorokin, P. Lunden. Power and morality: who shall guard the guardians?/P. Sorokin, W. Sorokin. Boston: P. Sargent, 1959.
- Weber, M. Economy and society: an outline of interpretive sociology/М. Weber. Vol. 1. N. Y.: Bedminster Press, 1968.