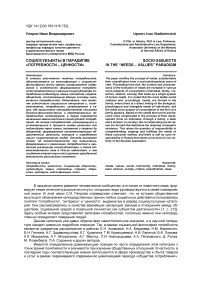Социосубъекты в парадигме "потребности - ценности"
Автор: Упоров Иван Владимирович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 9, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье уточняется понятие потребностей, обосновывается их классификация с социально-философской точки зрения, раскрываются содержание и особенности формирования потребностей применительно к разным социосубъектам потребления (индивидуум, семья, коллектив, страта, общество), составляющим единую систему человеческих потребностей. Отмечается, что наиболее устойчивые социальные отношения и, соответственно, потребности, складываются в семье, где происходит непосредственная стыковка биолого-физиологических и нематериальных потребностей индивидуумов, а также появляется начальный межличностный социосубъект потребления. На основе потребностей, развивающихся и усложняющихся в процессе своего развития (от индивидуума через семью, коллектив и страты до общества), формируются соответствующие общественные ценности, которые и определяют смысл существования людей. Отсюда вытекает вопрос об ответственности при осмыслении, формировании и реализации потребностей и ценностей указанными социосубъектами, и такой ответственности пока в России недостает, о чем свидетельствует еще низкий уровень гражданской активности российского населения.
Потребности, ценности, социальная общность, индивидуум, семья, коллектив, страта, общество, критерии, классификация, класс
Короткий адрес: https://sciup.org/149134875
IDR: 149134875 | УДК: 141:[330.163+316.752] | DOI: 10.24158/fik.2020.9.3
Текст научной статьи Социосубъекты в парадигме "потребности - ценности"
В процессе своего развития человеческое сообщество, в отличие от животного мира, формирует некие интеллектуальные институты, которыми люди руководствуются в своей повседневной жизни. В этой связи С.И. Петрова справедливо отмечает, что «в истории общественной мысли для обозначения непосредственных причин любых социальных действий использовались понятия “потребности”, “интересы” и “ценности”, выдвинутые в разряд социокультурных категорий. Они рассматривались в качестве важнейших связующих звеньев в отношениях между обществом, социальной средой и отдельной личностью как субъектом деятельности» [1, с. 212]. Здесь особый интерес представляет категория потребностей, поскольку именно они непосредственно определяют поведение людей.
Данная категория уже давно обрела свое самостоятельное значение, и в научной литературе находит довольно подробное описание. Так, в рамках социальной философии потребности являются предметом рассмотрения в работах Е.Н. Акимовой, Н.А. Бердяева, Н.М. Бережного, Б.Н. Генкина, А.Г. Здравомыслова, Е.Г. Куделина, Т.М. Кривошеевой, Н.И. Лапиной, Б.Ф. Ломова, К.Х. Момджяна, А.Т. Москаленко, А.Г. Маслоу, П.И. Новгородцева, А.А. Петровского, Д. Ролза, М. Розенберга, П.А. Сорокина и других авторов.
Имеются определенные доминирующие позиции по части определения этой категории с точки зрения понятийности и значимости при изучении общественных отношений. В частности, в последние годы соответствующие знания используются в сфере производства и сбыта товаров и услуг в рамках переживамого современной цивилизацией периода «общества потребления».
Так, в общей социологии, по мнению Л.П. Станкевича, «сущность потребности определяется в качестве объективного фактора общественного развития» [2, с. 97].
Сама потребность обычно понимается как «специфическая форма удовлетворения человеческих нужд» [3, с. 25], как «обобщающий итог множества конкретных нужд и запросов, отражающих желания индивида» [4, с. 11]. Это самые общие определения, которые, на наш взгляд, следует уточнить указанием на то, что потребности возникают в результате совокупного воздействия множества социальных, биологических и иных факторов, действующих в той среде, где находится субъект потребления. Следовательно, понятие «потребности» может (и должно) конкретизироваться. Например, в сфере маркетинга довольно распространенной является точка зрения, согласно которой потребность есть «побуждение, направленное на достижение определенных целей; мотив, лежащий в основе принятия решения о покупке товара или услуги» [5, с. 48]. Кроме того, нельзя не подчеркнуть, что потребности реализуются сообразно соответствующим ценностям, которые уже сформированы у субъектов потребления в течение предшествующего длительного развития общества (и здесь мы не можем полностью согласиться с тем, что ценности определяются исходя также из сиюминутных «насущных» потребностей [6, с. 27]; разумеется, между потребностями и ценностями имеет место тесная и непосредственная взаимосвязь, а также взаимовлияние, о чем писал, в частности, Т. Парсонс, но генерирующим фактором при формировании ценностей являются все же не сиюминутные, а проверенные временем потребности).
Еще одной важнейшей характеристикой потребностей является, на наш взгляд, их иерархия и взаимодействие, находящиеся в прямой зависимости от субъектов, их определяющих и реализующих. Подробное исследование этого аспекта, собственно, и составляет основную цель настоящей работы.
В интересующем нас контексте большое значение имеет классификация потребностей, учитывая, что данное понятие применимо к самым различным областям социальной жизни. В науке предпринимались многократные попытки осуществления систематизации видов потребностей, в основе которых, как правило, лежало их разделение на биологические и социальные; при этом внимание исследователей, как правило, акцентировалось на взаимообусловленности потребностей.
Обобщая соответствующие концепции, О.И. Вапнярская отмечает, что современными исследователями «дано расширенное толкование системы потребностей. Прежде всего, на основе подразделения потребностей на материальные (это потребности человека в обеспечении своего материального существования, которые для их удовлетворения предполагают наличие продуктов в вещественной форме, например, потребности в продуктах питания и одежде, в транспорте и в жилище) и нематериальные (удовлетворяемые в нематериальной форме, т. е. это потребности духовные, этические, эстетические) была уточнена совокупность первых из них: а) биологофизиологические, необходимые для нормального функционирования человеческого организма (пища, сон); б) биолого-репродуктивные (отдых, здравоохранение); в) биолого-экономические (жилье, одежда). Таким образом, базовыми критериями классификации потребностей стали: уровень социализации, по которому выделяют потребности населения (личные) и потребности всего общества, отдельных групп (общественные); уровень материальности, необходимый для удовлетворения потребности; области функционирования человеческого организма» [7, с. 39].
В целом, конечно, классификационных критериев и, соответственно, видов потребностей предлагается множество. Например, встречаются следующие разделения потребностей: кратковременные, средневременные, долговременные (Ж.Ж. Ламбен); идеальные (желаемые), достигаемые, реальные (Л.Ф. Столмов); объективно обусловленные и объективно не обусловленные (В.Н. Салин), вещественная, энергетическая и информационная составляющие потребностей (Б.Ф. Ломов) и т. д. В итоге, как отмечает Е.В. Гайнутдинова, «разноплановое решение проблемы потребностей стало причиной отсутствия общепринятой их классификации» [8, с. 27], что свидетельствует о многомерности и сложности философской категории «потребности».
В нашем случае, исходя из цели исследования, потребности целесообразно классифицировать по критерию социомасштабности, начиная от единичного субъекта (минимальный масштаб) и заканчивая предельно обобщенным субъектом (максимальный масштаб). Следовательно, речь идет о потребностях следующих социальных субъектов: 1) индивидуума; 2) семьи; 3) коллектива; 4) страты; 5) общества. На наш взгляд, такой подход, отражая, по А. Г. Маслоу, принцип возвышения потребностей [9, с. 35], позволяет считать указанную градацию социальных субъектов с точки зрения сопоставления их потребностей наиболее устойчивой. При этом выявленные взаимосвязи в сквозном развитии потребностей по последовательно нарастающему масштабу социальных общностей дают возможность лучше понять саму категорию потребности (мы ограничиваем свои рассуждения масштабом одного государства и, говоря, например, об «обществе», подразумеваем российское общество в целом).
Прежде всего необходимо заметить, что у каждого из указанных субъектов социальных отношений имеются только свои потребности, определяемые особенностями конкретного субъекта. Так, только индивидуум может иметь биолого-физиологические потребности, вытекающие из его природы как живого существа, обусловленные прежде всего инстинктами (прием пищи, сон, сексуальное влечение, реактивность при угрозе жизни и др.). По мнению К. Обуховского, «все физиологические потребности носят всеобщий, естественный и обязательный характер. Их удовлетворение не является выбором, сделанным личностью» [10, с. 19]. Однако вряд ли даже к таким потребностям применима абсолютизация не-выбора, поскольку человек сам решает, какие именно из этой группы потребностей ему нужнее в конкретных координатах (время, место) вплоть до отказа от таковых (добровольный уход из жизни). В этом смысле мы солидарны с К.Х. Момджяном, полагающим, что потребности есть «важнейшие детерминанты, которые ограничивают, но не отменяют свободу человеческой воли» [11, с. 84]. Кроме того, индивидуум обладает потребностями, вытекающими также из его природы как представителя рода ноmo sapiens, способного, в отличие от иных млекопитающих, рефлексировать, создавать смыслы, определять вид своей основной деятельности, осознавать окружающий мир и целенаправленно преобразовывать его, для чего он вступает с другими индивидуумами в социальные отношения, определённым образом и постепенно их упорядочивая. Статус индивидуума (человека, личности, индивида) четко и подробно закрепляется в Конституции России (глава вторая) и других законах. И при этом обращает на себя внимание то обстоятельство, что общество (государство) законодательно утверждает указанный статус таким образом, что он распространяется на всех индивидов без исключения (например, «каждый имеет право на жизнь»), т. е., если огрубить, – на каждую человеческую особь, на каждое существо, рожденное с признаками, позволяющими идентифицировать его как человека, даже если у такого человека отсутствуют какие-либо социально-интеллектуальные возможности (тяжелая болезнь, родовые дефекты и др.). Тем самым за каждым человеком признается «врожденная потенция» иметь и реализовать высшие потребности личности (А.Г. Маслоу), что присуще только человеческому сообществу и составляет одну из его уникальных особенностей, которая, очевидно, может стать предметом самостоятельного исследования.
На этапе начального социального обобщения (совместной жизни) индивидуумы наиболее тесно связываются в семье, получившей в советское время стереотипное и достаточно обоснованное определение первичной социальной ячейки общества, члены которой объединены брачными отношениями, кровным родством, непосредственной совместностью проживания и ведения общего хозяйства в обособленном пространстве, стремлением оказать всемерную помощь, защищать при необходимости друг друга, нести взаимную ответственность, и такое понимание по-прежнему доминирует в современной науке [12]. Брачные отношения, по общей практике, складываются между мужчиной и женщиной на основе взаимосимпатии (любви), личного волеизъявления, общих интересов, схожего восприятия окружающей культуры, действующих социальных норм в период вступления в брак. Семья как субъект потребления имеет присущие такой малой социальной группе потребности, которые позволяют ей функционировать именно в таком статусе, и прежде всего это касается наличия своего жилья, материально-денежных источников существования, воспитания детей, приобретения товаров и предметов семейного пользования, взаимоуважения, проведения семейных мероприятий досугового, учебного, трудового, праздничного характера и т. д. Исходя из этого, следует согласиться с Д.Ш. Мустафаевой в том, что семья, «являясь неотъемлемой функцией личности, обусловливает само существование человеческого общества» [13, с. 186], являясь при этом давно сложившимся социальным институтом [14, с. 132].
И действительно, на уровне семьи (точнее, в период ее создания) происходит первая и единственная непосредственная стыковка биолого-физиологических и нематериальных потребностей индивидуумов – появляется, помимо био- и физио-, также и межличностный социосубъект потребления (например, биопотребность в продолжении рода – появлении потомства дополняется социопотребностью совместного проживания мужчин и женщин). Очевидно, именно указанным обстоятельством объясняется наибольшая устойчивость семьи из всех иных видов социальных общностей, о чем свидетельствует и достаточно подробное регулирование семейных отношений как юридическими, так и нравственными нормами. И неслучайно из всех социальных общностей, которые в ходе человеческой истории многократно видоизменялись, только семья смогла устоять и сохранить многовековые традиции [15, с. 83].
Следующая общность из рассматриваемого нами перечня – коллектив – имеет уже меньшую степень устойчивости. Данная общность объединяет индивидуумов каким-либо существенным, важным для них интересом (целью, заданием, желанием и т. п.) на протяжении относительно длительного времени (макромасштаб – от нескольких месяцев до нескольких лет). Как правило, речь идет о трудовых (рабочих, служебных), учебных, спортивных, творческих коллективах. Следует заметить, что особенности коллективов как социальной общности применительно к конкретным сферам деятельности (чаще всего это учебные и трудовые коллективы) исследованы в трудах П.Н. Аникеева, А.И. Донцова, Я.Л. Коломинского, И.Л. Новиковой, Л.А. Сундеевой, Е.Д. Короткиной и др., однако данный социофилософский феномен все же изучен недостаточно. И если семья после ее создания чаще всего остается для индивидуума неизменной социальной общностью на протяжении всей жизни, то коллективов, членом которых является индивидуум, может быть несколько и даже много (до нескольких десятков). У каждого из них также есть свои потребности, среди которых следует назвать удовлетворение общего интереса, поддержание приемлемого микроклимата, соблюдение корпоративной этики, наличие определенной перспективы, материально-моральное стимулирование коллективной деятельности, признание ее результатов общественностью и др., в результате формируется «коллективный разум, опыт и морально-этические нормы» [16, с. 960].
Коллективы создаются по мере необходимости и, как правило, посредством директивных решений. Нередко индивидуумы становятся членами тех или иных коллективов под влиянием вынуждающих факторов (уровень зарплаты, место нахождения и т. д.), соответственно, эффективность коллектива в сфере его деятельности существенно снижается, если «идеи и миссия коллектива» не совпадают с убеждениями работающих в нем людей [17]. В этом контексте менее устойчивыми, но более динамичными в своем развитии являются самодеятельные коллективы, формирующиеся по инициативе самих индивидуумов (музыкальные ансамбли, клубы по интересам, различные общественные микроорганизации и т. д.). Правовой статус коллективов как социальных общностей не имеет детального правового регулирования.
Следует также подчеркнуть, что в коллективе, как и в семье, индивидуумы непосредственно взаимодействуют друг с другом, а в целом такие виды социальных групп (семья, коллектив) можно относить к тесно контактируемым общностям.
Этого нельзя сказать о стратах, которые представляют собой следующий, более высокий уровень социального обобщения (группирования). Довольно долго для такого масштаба общности использовался термин «класс» как фундаментальная категория марксистско-ленинской теории (а до этого – «сословие»), однако ситуация изменилась, идея коммунизма (социализма) не выдержала испытания временем и в практическом плане угасла (вместе с распадом советского государства). И если раньше, например, рабочий класс (пролетариат) имел достаточно четкие характеристики, то в настоящее время этого уже нет. Однако рабочие как представители низшей ступени трудовой иерархии никуда не делись, хотя их организованность в России уже никак не позволяет определять их как «класс». Следствием такого положения дел стало введение и более широкое использование понятия «страты» – социальный масштаб тот же, а степень социальной общности значительно ниже, и те же рабочие сейчас объединены с другими наемными работниками, которые в совокупности в целом в стране составляют отдельную страту.
В качестве других страт, по разным критериям, можно указать пенсионеров, сельских жителей, инвалидов, бизнесменов, служащих, публично-властных деятелей, сторонников политических движений и др. У таких социальных общностей свои потребности – в зависимости от характера страты. Например, у страты пенсионеров преобладают потребности в более высоких пенсиях, налаженной работе учреждений здравоохранения и социальной защиты, внимании и помощи близких людей.
Юридического оформления страты-общности, как правило, также не имеют. Следует заметить, что страта как социосубъект детально исследована в работах многих ученых, и прежде всего необходимо назвать нашего соотечественника П.А. Сорокина, который в своей работе «Социальная мобильность» (первое издание в 1927 г.) выделил три критерия стратификации: экономический, политический и профессиональный. При этом важной представляется его мысль о том, что стратифицируется любое общество, в том числе «устремленное к коммунизму» [18, с. 11]. И именно ущемление потребностей страт может, по его мнению, привести к революции, если оно будет иметь массовый характер. Это сформулированное ученым положение остается актуальным и сегодня. Весьма интересным представляется также социогенетический подход П.А. Сорокина к проблеме происхождения потребностей – он подробно прокомментирован Н.Д. Куревиным [19].
И, наконец, социальная общность высшего уровня – само общество. Эта общность исследована достаточно подробно в научной среде, и мы не видим смысла детально останавливаться на этом. Отметим лишь, что применительно к России следует согласиться с А.Н. Ильиным, который пишет о характерном для нашей страны «ослаблении социальных связей, индивидуализме, аполитичности, переориентации массового интереса с серьезных политических, экономических, экологических и т. д. тем на аспекты личного характера … Данные проблемы напрямую связаны с тенденциями потребительской культуры» [20, с. 58]. Об этом может свидетельствовать, в частности, относительно спокойная реакция российского общества на решение о повышении пенси- онного возраста, в отличие от Франции, где прошли многотысячные митинги и демонстрации протеста по схожим причинам. В России дело ограничилось сравнительно умеренной критикой действий властей в средствах массовой информации. При этом, как ни парадоксально, степень доверия к высшей власти (президенту) в целом сохранилась, о чем свидетельствуют итоги голосования по поправкам к Конституции России, проведенного 1 июля 2020 г. Можно констатировать на этом примере, что общество не расценивает потребности будущих пенсионеров как первоочередную проблему общества, несмотря на множество публикаций по этому поводу. А это уже демонстрирует сложность системы потребностей общества, которая характеризуется изменчивостью и зависит от множества факторов, в том числе внешнеполитических, что хорошо видно на примере Крыма – его вхождение в состав России стало существенным консолидирующим элементом для российского общества.
Для понимания масштаба значимости общества в качестве социальной общности важно также отметить, что на основе его потребностей формируются общественные ценности. Как отмечает Е.М. Шаронина, «потребности, преобразованные в интересы, в свою очередь превращаются в ценности. Каждое из этих преобразований содержит в себе определённые качественные моменты … Содержание ценностей обусловлено культурными достижениями общества. Мир ценностей – это, прежде всего, мир культуры в широком смысле слова, это сфера духовной деятельности человека, его нравственного сознания, его привязанностей – тех оценок, в которых выражается мера духовного богатства личности» [21, с. 162]. Общественные ценности «растекаются» по иным социальным общностям, доходят до индивидуума, тем самым подвергаясь своеобразной «обкатке», и затем транслируются в обратном направлении в виде обновленных потребностей.
Таким образом происходит динамическое развитие института потребностей, при этом, как нам представляется, наиболее важными этапами являются начальный (уровень индивидуума) и конечный (уровень всего общества), между которыми посредством иных социальных общностей происходит «тестирование» все новых и новых потребностей, часть из них, получая позитивную оценку, трансформируется в ценности, ради которых, собственно, и живет человек, а другая часть отвергается – в зависимости от довлеющих над индивидуумом ценностей, сложившихся в период его жизни.
Этот процесс взаимообусловленности потребностей и ценностей, как показывает история, чрезвычайно противоречив (что характернодля России XX – начала ХXI вв.). Длительное время отношения «потребности – ценности» обуславливались религиозными соображениями. Однако объективный ход развития человеческого сообщества предопределяет неизбежность изменений и в этой сфере личностных отношений. Наглядным примером может служить наступление эпохи Нового времени, когда, как отмечает В.В. Атаян, «образовывается некая ценностная иерархия, имеющая следующую структуру: гуманизм – справедливость – свобода. Для того чтобы свобода была достигнута, необходимо построить общество и общественные процессы на принципах рациональности. Рационально мыслящий субъект имеет шансы для достижения свободы» [22, с. 7]. Начинают активно развиваться такие общественные институты, как наука, образование, право и др. Окружающий мир получает иное, помимо религиозного, объяснение. Происходит формирование новых ценностей на основе растущего массива новых потребностей, когда, например, создаются и совершенствуются механизмы для повышения производительности труда, проявляется стремление к физическим опытам для лучшего познания природы, к изучению космического пространства через телескопы и т. д., когда возникает необходимость более четко регулировать социально-экономические отношения посредством принятия обязательных для всех законов, определяющих, среди прочего, расширяемые границы свободы личности. В этой связи Р.И. Байгутлин указывает на то, что «массовое правомерное поведение требует соответствия между господствующей в обществе ценностной системой и ценностями, закрепленными и обеспеченными объективным правом. Это порождает комплексную проблематику ценностной консолидации общества и конструктивно-критической оценки аксиологического содержания действующего объективного права» [23, с. 9].
И в этом смысле чем больше человечество обретает опыта своего существования и чем, соответственно, сложнее становится структура социума, тем многообразнее потребности на всех указанных выше уровнях социосубъектов. Так, стремление людей к более интенсивной коммуникации привело к созданию института международного права, и уже с XIX в. формируемые в его рамках ценности приняты большинством государств, доносятся от общества через страты, коллективы и семьи до индивидуумов, формируя обновленные потребности-ценности. Наглядным примером может служить создание международного гуманитарного права, в рамках которого появилась организация «Международный комитет Красного креста» (1863 г.), благодаря чему в военных конфликтах (войнах) посредством ряда конвенций (прежде всего женевских) стали продвигаться принципы милосердия. Во многих странах, и в современной России в том числе, эти принципы доводятся до военнослужащих-индивидуумов, формируя у них соответствующие ценностные ориентации.
А в новейшее время наблюдается развивающийся большими темпами процесс глобализации. Один из его ценностных продуктов – общечеловеческие ценности, которые «являются субъективным обобщением объективных начал человеческого сосуществования и включают в себя многие этические и эстетические основания, которые присущи и понятны Человеку, которые Он желал бы назвать своими. Это любовь, дружба, добро, милосердие, альтруизм и т. д. … Они являются универсальными воплощениями нравственного достоинства человека, его способности культивировать в себе высшие моральные ценности» [24, с. 29]. Можно также говорить о трансформации потребностей-ценностей в связи с цифровыми технологиями, что составляет предмет самостоятельного исследования, и о других признаках глобализации.
В этом контексте российское общество движется по своеобразному пути. Так, чрезвычайно серьезному испытанию Россия подвергалась в 1917 г., когда революция и гражданское кровопролитное противостояние стали, по сути, войной разных потребностей-ценностей. В 1991 г. ситуация во многом повторилась (исключая вооруженный конфликт), Россия приняла европейские ценности, отразив их в Конституции России 1993 г. Например, в ст. 18 значится: «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».
С тех пор прошло почти 30 лет. Российская постсоветская философская наука имеет очевидный тренд, совпадающий с преобладающим в западном мире. В частности, высшими ценностями человеческого существования в философских работах объявляются: гражданин – как высшая ценность конституционно-демократического, гражданского общества (Р.Б. Булатов, Д.Р. Каюмов), личность – как высшая духовная ценность (Д.В. Захарчук), духовность – как высшая жизнеутверждающая ценность (И.А. Бокачев), человек – как высшая моральная ценность (С.К. Темирба-ева), смысл жизни – как высшая ценность человека (А.Э. Воскобойников), здоровье человека – как высшая социальная ценность (О.П. Орлюк, Л.Ю. Малюга, Л.М. Синева, Д.В. Зозуля) и др. Однако, как представляется, указанные ценности, сформированные в данном случае на уровне общества как социосубъекта, еще не донесены через страты, коллективы и семьи до индивидуумов в такой мере, чтобы можно было говорить об их трансформации в потребности. И неизвестно, произойдет ли это в макробудущем. Более того, возникает вопрос: а нужно ли, чтобы произошло?
Вновь обратимся к П.А. Сорокину: «Организм западного общества и культуры переживает, по-видимому, один из самых сильных и глубочайших кризисов за всю свою историю. Он гораздо серьезнее, чем обычный кризис; глубина его неизмерима, конца ему пока не видно, и западное общество погружается в него целиком. Это кризис чувственной культуры, которая господствовала в западном мире в течение последних пяти столетий и ныне достигла состояния перезрелости» [25, с. 167]. Эту и другие оценки западному обществу он давал в середине ХХ в., но они во многом остаются актуальными, если иметь в виду масштаб десятилетий. В этой связи можно предположить, что российское общество историко-генетически не приемлет западные ценности (и соответствующие потребности) в полном объеме, несмотря на смену общественно-экономической формации (социализм – капитализм), что само по себе свидетельствует об устойчивости российского варианта парадигмы «ценности – потребности». И такой отход от заявленных в начале 1990-х гг. западных ценностей на уровне социальной практики и управления, возможно, представляет собой проявление социального инстинкта, предохраняющего российское общество от потенциальных угроз кризиса западного мира. Об этом может свидетельствовать, в частности, неприятие значительной частью жителей России рыночных отношений в экономике, введение института государственных корпораций, сохраняющаяся в сознании многих людей приоритетность интересов государства над интересами личности и др. А недавние поправки к Конституции России (закон от 14 марта 2020 г., подтвержденный всероссийским голосованием 1 июля 2020 г.) свидетельствуют, что в России формируется все же своя ценностная система. Но отсюда вытекает и ответственность при осмыслении, формировании и реализации потребностей и ценностей указанными социосубъектами. Такой ответственности пока в России недостает, о чем свидетельствует еще низкий уровень гражданской активности, и, на наш взгляд, именно этот вопрос должен занимать все больше места в гуманитарном воспитании новых поколений российских граждан.
Ссылки:
Редактор: Ситникова Ольга Валериевна Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна
Список литературы Социосубъекты в парадигме "потребности - ценности"
- Петрова С.И. Потребности и потребление в современном социальном контексте // Омский научный вестник. 2010. № 1. С. 209-212
- Станкевич Л.П. Проблемы целостности (гносеологический аспект). М., 1987. 134 с
- Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг, менеджмент и стратегии. СПб., 2007. 542 с
- Маркетинг: энциклопедия / под ред. М. Бейкера. СПб., 2002. 1198 с
- Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия. М., 2001. 803 с