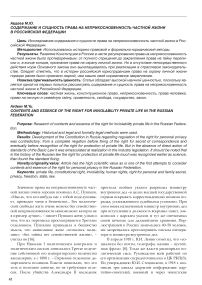Содержание и сущность права на неприкосновенность частной жизни в Российской Федерации
Автор: Авдеев Михаил Юрьевич
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Права человека в Евразийском пространстве
Статья в выпуске: 4 (23), 2016 года.
Бесплатный доступ
Цель: Исследование содержания и сущности права на неприкосновенность частной жизни в Российской Федерации. Методология: Использовались историко-правовой и формально-юридический методы. Результаты: Развитие Конституции в России в части регулирования права на неприкосновенность частной жизни было противоречивым: от полного отрицания до закрепления права на тайну переписки и, в конце концов, признания права на охрану личной жизни. Но в отсутствие непосредственного действия норм Основного закона оно выхолащивалось при реализации в отраслевом законодательстве. Следует отметить, что в истории российской юриспруденции право на охрану личной жизни гораздо ранее было признано наукой, чем нашло своё нормативное закрепление. Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку является одной из первых попыток рассмотреть содержание и сущность права на неприкосновенность частной жизни в Российской Федерации.
Частная жизнь, конституционное право, неприкосновенность, права человека, право на личную и семейную тайну, приватность, свобода, государство, закон
Короткий адрес: https://sciup.org/14042369
IDR: 14042369
Текст научной статьи Содержание и сущность права на неприкосновенность частной жизни в Российской Федерации
Значение права на неприкосновенность частной жизни очень хорошо понимал А.С. Пушкин. «Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство... Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности невозможно: каторга не в пример лучше», – пишет Пушкин жене, узнав о том, что их переписка просматривается Третьим отделением. Пушкина приводила в бешенство мысль, что написанное жене «попалось полиции»; «без тайны нет семейственной жизни», – считал он [16].
При Николае I политическим контролем и политическим сыском занималось Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии, а с 1880 г. – Охранное отделение департамента полиции. Власти понимали, что это хоть и полезное занятие, но не требующее огласки. После убийства Александра II наследник престола особым указом разрешил министру внутренних дел «в целях высшей государственной охраны вскрывать корреспонденцию помимо порядка, установленного судебными уставами». При этом вновь назначенный министр внутренних дел при вступлении в должность вскрывал пакет, знакомился с царским указом и тут же опечатывал своей печатью для дальнейшего хранения. Перлюстрацией в России занимались 40–50 человек, им запрещалось просматривать письма императора и министра внутренних дел.
В апреле 1918 г. В.И. Ленин отметил, что «социализм без почты, телеграфа, машин – пустейшая фраза» [8]. Тогда же власти расширили политический сыск. Руководство всей работой по его организации сосредоточивалось в ЦК РКП(б). По утверждению Ю.И. Стецовского, в 1918 г. возникли три канала закрытой информации: партийно-советский, военный и через чекистские организации [17]. 22 июня 1918 г. по поручению В.И. Ленина секретарь Совнаркома РСФСР Н. Горбунов предложил экономической секции Управления военного контроля, которая занималась перлюстрацией международной переписки, «энергично продолжать… деятельность и доставлять соответствующие сведения секретными пакетами на мое имя, а также завязать сношения с ВЧК».
Данные, привлекшие внимание цензора, направлялись в соответствующие отделы ОГПУ. Принимаемые меры маскировались формальными предлогами. К концу 1920-х гг. была создана мощная конспиративная система тотального сбора политической информации [4].
Конституция 1936 г. гласила: «Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняется законом». При этом подчеркивалось: «Важнейшей принципиальной особенностью основных прав граждан СССР является их реальность, которая обеспечивается советским социалистическим общественным строем» [19]. В жизни же эта «реальность» означала политический контроль. Большое место в контроле над человеком отводилось деятельности по использованию осведомителей. Многим предлагалось купить свою жизнь или жизнь близких, приняв на себя функции тайных агентов. Большое значение придавалось информации, компрометирующей высших руководителей. В их кабинетах, квартирах и на дачах устанавливались подслушивающие устройства. Тайный сбор сведений для досье был обычной практикой и поддерживался членами политбюро [9, 10, 11].
После войны в СССР началась кампания по раскрытию псевдонимов, послужившая своеобразным запалом к вспышке национализма и самоизоляции, которая угасла после смерти Сталина. Эта кампания также является примером последствий разглашения конфиденциальных сведений.
Тем не менее, в конечном итоге это вторжение в частную жизнь стало проблемой и для самих руководителей. В постановлении ЦК КПСС от 4 декабря 1952 г. «О положении в МГБ» предлагалось «решительно покончить с бесконтрольностью в деятельности органов Министерства госбезопасности и поставить их работу под систематический и постоянный контроль партии» [5].
В 1953 г. вину за нарушение пределов частной жизни взвалили на Л. Берию. В постановлении пленума «О преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берии» указывалось, что Берия установил «порядок обязательных до- кладов его агентов о том, где бывают руководители партии и правительства, с кем встречаются, были организованы прослушивание и запись их телефонных разговоров и т. д.» [5].
Впрочем, положение мало изменилось и в последующем. Так, в воспоминаниях Н.С. Хрущева говорится, что, когда в 1968 г. его вызвали в ЦК и потребовали рукопись воспоминаний, он высказал возмущение тем, что «… в нарушение Конституции утыкали всю дачу подслушивающими устройствами… Сортир и тот не забыли…» [18].
Безусловно, власти не выпускали из поля зрения и рядовых граждан. Еще глава КГБ СССР В. Крючков в 1990 г. призывал всех честных граждан информировать органы о посягательствах на «социалистический государственный строй». Механизм осуществления прослушки и записи разговоров подробно описан в монографии Ю.И. Стецовского «Право на свободу и личную неприкосновенность. Нормы и действительность», изданной в 2000 г. Официально же считалось, что «в СССР не может формироваться каких-либо досье (дел), содержащих информацию о личности и деятельности граждан, поскольку это противоречит сущности демократических прав и свобод. Нельзя согласиться даже с мыслью о возможности формирования государственными органами в СССР подобных фондов» [12].
Проблема была не только в существовании таких досье, делавших частную жизнь прозрачной. Гражданин не знал, заведено ли на него досье, а если и знал, то не мог ознакомиться с содержащейся в нем информацией. Не были доступны и нормативно-правовые акты, относившиеся к этой сфере [9, 10, 11].
Режим не оставлял места для автономии частной жизни и безопасности человека. Не было закона, регламентировавшего порядок проверки гражданином собранных о нем сведений. Были слабые попытки исключить из учетных документов пункты, не имеющие юридического значения: о национальности, членстве в КПСС, ВЛКСМ, социальном происхождении и т. д. Но власти резко прекращали подобные дискуссии. Так, в июне 1955 г. ЦК КПСС постановил: «Запретить государственным, общественным организациям вносить изменения или дополнения в утвержденные настоящим постановлением личный листок по учету кадров и анкету».
Тем не менее, официально советские законы не предусматривали заполнение учетных документов и сбор характеристик. Закон не разрешал использовать фонозапись, электронику и т. д. для тайной слежки. Сталин и другие генсеки не реша- лись рассекретить эту практику в Конституции и законах [9, 10, 11].
При решении проблем оперативно-розыскной деятельности в ход шли ссылки на опыт США и других государств [7].
Приоритет личных интересов вызвал потребность в развитии и стабильности института прав человека. В советское время и в правовой науке, и в правоприменительной практике, и в реальной жизни на проблемы отдельной личности чаще всего внимания не обращали. Юристы в научных трудах рассматривали правовое положение абстрактной личности. Развитому же гражданскому обществу присуще признание и защита прав и свобод конкретного человека в самых различных сферах его жизнедеятельности. Особенность гражданского общества в том и состоит, чтобы работа всех его структурных элементов в той или иной мере была направлена на удовлетворение и защиту прав и интересов отдельного человека [14]. Такой подход не является чем-то кардинально новым для стран с так называемой персоноцентристской системой ценностей [13].
Конституция Российской Федерации значительно шире и полнее, чем предыдущая Конституция РСФСР, отразила и закрепила различные аспекты права на информацию (ст. 29). Одновременно Конституция подтвердила право граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 23). Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются (ст. 24). Предписания Конституции позволяют сделать вывод о приоритетности принципа неприкосновенности частной жизни по отношению к принципу, гарантирующему право на получение информации. Правда, охрана сферы частной жизни является для российского права сферой относительно новой [15].
Для России включение в Конституцию статьи, провозглашающей, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, стало огромным шагом вперед.
Р. Давид писал: «Пытаться ограничить юридическую науку пределами одного государства... это значит ограничить свои возможности познания и деятельности» [1].
Западные исследователи права на приватность, когда они хотят описать те последствия, которыми грозит массовое нарушение неприкос- 64
новенности частной сферы, обычно вспоминают Оруэлла и его «1984 год». Нам нет необходимости прибегать к литературным аллюзиям, поскольку у нас есть свой опыт реальной жизни в тоталитарном государстве, более для нас убедительный, чем литературный источник, потому что это наш собственный опыт. Десятки людей, получивших срок за «антисоветскую агитацию и пропаганду» на основании одних лишь дневников, частных писем или высказываний в дружеском кругу. Открытые голосования в поддержку или в осуждение человека, призванные засвидетельствовать его «преданность делу партии и правительства». Персональные дела, кончавшиеся увольнением с работы. Позорные медицинские справки о невозможности иметь детей, требовавшиеся для освобождения от «налога на холостяков». Не говорю уж о сплошной перлюстрации корреспонденции, поступающей из-за границы, и о постоянном страхе того, что твой телефон прослушивается. Все это – нарушения неприкосновенности частной жизни. При этом последняя советская конституция, Конституция 1977 г., содержала специальную норму о том, что «личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений охраняются законом» [9, 10, 11].
Живя в обществе, где любое требование духовной независимости подавлялось как посягательство на основы государственного строя, и где человек постоянно испытывал ощущение, очень точно выраженное в одной из песен Галича: «Вот стою я перед вами, словно голенький», мы постоянно имели возможность убедиться в том, насколько тесно неприкосновенность частной жизни связана с политической свободой.
Сейчас положение вещей изменилось. Новая Конституция уже не ограничивается расплывчатым указанием на то, что личная жизнь «охраняется законом», а четко закрепляет за человеком «право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени» (статья 23). Эта формулировка означает, что человек сам может активно защищать свое право, независимо от того, охраняется оно или нет каким-то опосредующим законом [2, 3, 6].
Список литературы Содержание и сущность права на неприкосновенность частной жизни в Российской Федерации
- Давид Р. Основные правовые системы современности (сравнительное право). М., 1967. С. 33.
- Дунаева М.С. Основания и пределы уголовно-процессуального вмешательства в частную жизнь граждан: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2002.
- Захарцев С.И. Прослушивание телефонных переговоров в оперативно-розыскной деятельности и уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2002.
- Иванский В.П. Проблемы гармонизации национальных законов в сфере защиты трансграничных персональных данных//Вестник РУДН. 1998. Вып. 1.
- Известия ЦК КПСС. 1991. № 2. С. 204.
- Исхаков Э.С. Личная жизнь (философско-этический анализ): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1981.
- Королёв Г.А. Виды юрисдикции государств, применяемые для привлечения к уголовной ответственности должностных лиц за совершенные международные преступления//Представительная власть -ХХI век. 2015. № 3.
- Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 272.
- Маркоменко В. Информационное общество и проблемы его безопасности//Федерализм. 1997. № 4.
- Матузов Н.И. Личность. Право. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. Саратов: СЮИ, 1972.
- Матузов Н.И. Субъективные права граждан СССР. Саратов, 1966.
- Новоселов В.И. Правовое положение граждан в советском государственном управлении. Саратов, 1976. С. 206.
- Оболонский А.В. Драма российской политической истории: система против личности. М., 1994.
- Орлова О.В. Гражданское общество и личность: политико-правовые аспекты. М.: Академический правовой университет, 2005.
- Петров С.М., Грудцына Л.Ю. Власть и гражданское общество в России: взаимодействие и противостояние//Административное и муниципальное право. 2012. № 1. С. 25.
- Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: в 10 т. Т. 10. М., 1966. С. 485.
- Стецовский Ю.И. Право на свободу и личную неприкосновенность. Нормы и действительность. М.: Дело, 2000. С. 389.
- Хрущев Н.С. Воспоминания. М., 1993. С. 241.
- Юридический словарь. М., 1953. С. 420.