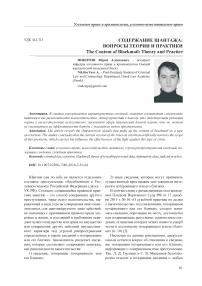Содержание шантажа: вопросы теории и практики
Автор: Никитин Юрий Алексеевич
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
Статья в выпуске: 3 (32), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается характеристика сведений, которые составляют содержание шантажа как разновидности вымогательства. Автор приходит к выводу, что действующая редакция нормы о вымогательстве искусственно зауживает сферу применения данной нормы, что не может не сказываться на эффективности борьбы с указанным видом преступления.
Уголовное право, вымогательство, шантаж, угроза распространения сведений, позорящие сведения, судебная практика
Короткий адрес: https://sciup.org/14317772
IDR: 14317772 | УДК: 343.713 | DOI: 10.19073/2306-1340-2016-3-61-64
Текст научной статьи Содержание шантажа: вопросы теории и практики
Шантаж сам по себе не является отдельным составом преступления, обособленным в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ). Согласно сложившейся правовой практике шантаж – это способ совершения другого преступления, чаще всего вымогательства, выраженный в виде угрозы совершения явно нежелательных для шантажируемого лица действий, не связанных с причинением прямого вреда здоровью и жизни, и состоящий в требовании передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой распространения определенных в законе сведений о потерпевшем или его близких. Законодатель разделяет сведения, которые составляют содержание шантажа, как разновидности вымогательства:
-
1) сведения, позорящие потерпевшего или его близких;
-
2) иные сведения, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.
В соответствии с разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве» под сведениями, позорящими потерпевшего или его близких, следует понимать сведения, порочащие их честь, достоинство или подрывающие репутацию, а равно иные сведения, оглашение которых может нанести ущерб чести и достоинству потерпевшего или его близких (п. 10) [3].
Несмотря на данные разъяснения, дискуссионным остается вопрос об отнесении к сведениям, позорящим потерпевшего или его близких, информации о совершенном ими преступлении. Так, Л. Д. Гаухман и С. В. Максимов безоговорочно относят к позорящим сведения о любых противоправных, аморальных и других неблаговидных поступках потерпевшего либо его близких [1, с. 121]. В. В. Щербина также причисляет к сведениям, позорящим потерпевшего, информацию об аморальном проступке или совершенном преступлении. При этом отмечается, что сам потерпевший должен считать данные сведения позорящими и не желать, чтобы они стали известны посторонним [9, с. 36].
С. М. Кочои выразил сомнение, что сведения о совершенном кем-либо преступлении позорят это лицо, поскольку позор означает «бесчестье, вызывающее презрение», а лицо, совершившее преступление, как раз и должно вызывать презрение [2, с. 243]. Таким образом, информация о реально совершенном лицом преступлении объективно не может опозорить последнего, независимо от мнения самого потерпевшего.
Суть позора, по мнению В. Н. Сафонова, состоит в чувстве стыда [8, с. 61]. Преступники же не всегда считают факт совершения преступления позорным для себя и не испытывают чувства стыда, опасаются же они факта разглашения данных сведений только из-за страха возможного наказания. В данном случае информация о совершенном преступлении не будет относиться к позорящим сведениям ввиду того, что она субъективно не воспринимается в качестве таковой.
Следует констатировать, что сведения о реально совершенном лицом или его близкими преступлении не могут быть отнесены к позорящим, а их распространение не способно причинить существенного вреда чести и достоинству потерпевшего от вымогательства. Вместе с тем предназначение угроз при вымогательстве – вынудить потерпевшего совершить определенные действия либо бездействие под угрозой распространения таких сведений, которые не должны стать достоянием окружающих и которые потерпевший пытается сохранить в тайне. Безусловно, потерпевший стремится сохранить данные сведения в тайне в большей степени из-за страха возможного привлечения к уголовной ответственности, что оказывает на него такое же стимулирующее воздействие, как и угроза применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества.
В связи с изложенным угроза распространения сведений о действительно совершенном преступлении должна образовывать вымогатель- ство, несмотря на то, что действующая редакция нормы не позволяет отнести данные сведения ни к позорящим потерпевшего или его близких, ни к иным сведениям, которые, как указано в ст. 163 УК РФ, могут причинить существенный вред правам и законным интересам указанных лиц. Попутно следует заметить еще одну неточность законодателя, которая выражается в том, что не сами по себе сведения могут причинить какой-либо вред, а только действия виновного по их распространению.
По пути признания сведений о совершенном преступлении в качестве вымогательской угрозы идет и современная судебная практика. Так, по приговору Вологодского городского суда от 17 ноября 2014 г. по делу № 1-721/2014 были осуждены гр-не К. и Л. за преступление, предусмотренное пп. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ, совершенное при следующих обстоятельствах. Указанные лица, имея видеозаписи, содержащие информацию о причастности Щ. к заказу убийства Д., с целью незаконного требования у Щ. денежных средств в крупном размере под угрозой разглашения позорящих его сведений, которые могут причинить существенный вред его правам и законным интересам, действуя умышленно, из корыстных побуждений, высказали незаконные требования о передаче им денежных средств, угрожая передачей указанных видеозаписей в правоохранительные органы и возбуждением в отношении Щ. уголовного дела [6]. Как установил суд, именно страх перед возможным разоблачением вынудил потерпевшего согласиться на требования вымогателей и передать им требуемую сумму денег.
В приведенном примере можно увидеть еще одну неточность, которую допускает правоприменитель. Как указывалось выше, законодатель разделяет сведения, распространением которых угрожает вымогатель, на позорящие сведения, а также иные сведения, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких. Суды же не столь щепетильны в отнесении информации о совершенном преступлении к тому или иному виду сведений и зачастую указывают в своих решениях, что вымогательство было совершено под угрозой распространения «позорящих сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего». Считаем неверным смешивать эти два самостоятельных вида сведений, по- скольку возможен шантаж как сведениями, позорящими потерпевшего, но распространение которых не нарушает его права и законные интересы (совершение аморальных поступков), так и сведениями, способными повлечь указанные последствия, но не являющимися позорящими (например, наличие заболевания, факт усыновления, сведения о совершенной сделке и др.).
Что же касается сведений о совершенном лицом или его близкими преступлении, то достаточно очевидно, что распространение данной информации не сможет причинить вред правам и законным интересам потерпевшего, поскольку уголовное законодательство не может охранять заинтересованность лица в стремлении избежать обоснованного и законного привлечения к уголовной ответственности.
Таким образом, действующая редакция ст. 163 УК РФ искусственно сужает сферу применения данной нормы, что не может не сказываться на эффективности борьбы с данным видом преступления. Решить эту проблему возможно путем указания в качестве сведений, используемых при шантаже, любых сведений о потерпевшем или его близких, которые потерпевший желает сохранить в тайне. На самом деле, не имеет принципиального значения причина, по которой потерпевший желает сохранить какие-либо сведения в тайне. Главное, что нежелание распространения указанных сведений вынуждает потерпевшего соглашаться на требования вымогателей.
Состав вымогательства сконструирован законодателем как формальный: данное преступление окончено с момента предъявления соответствующих требований под угрозой распространения указанных в законе сведений. Таким образом, сам факт распространения каких-либо сведений выходит за рамки состава рассматриваемого преступления и, соответственно, в случае, если указанные действия содержат признаки иного преступления, требуется дополнительная квалификация по соответствующим статьям УК РФ.
Действия вымогателей могут быть сопряжены также с распространением сведений, составляющих личную или семейную тайну, и, при наличии к тому оснований, должны быть дополнительно квалифицированы по ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Так, по приговору Бутырского районного суда г. Москвы от 10 апреля 2012 г.
по делу № 1-191/12 был осужден гр-н М. за совершение ряда преступлений, в том числе и деяний, предусмотренных ст.ст. 137 и 163 УК РФ. Указанные преступления были совершены при следующих обстоятельствах. Гр-н М. из корыстных побуждений потребовал от ранее знакомой ему Ш. передать ему денежные средства и ценные вещи под угрозой распространения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») против воли Ш. фотографий с обнаженным изображением последней, позорящих и унижающих ее честь и достоинство, которые им (М.) были изготовлены ранее, в период совместного проживания с ней, а также под угрозой опубликования в сети «Интернет» объявлений о том, что Ш. якобы предоставляла интимные услуги за денежное вознаграждение, что не соответствовало действительности. После получения требуемого имущества гр-н М. опубликовал в сети «Интернет» указанные выше фотографии [5]. Суд указал, что данные действия совершены в нарушение требований ст. 24 Конституции Российской Федерации, п. 7 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ [4] и, соответственно, являются нарушением неприкосновенности частной жизни, а именно незаконным распространением сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия.
Вместе с тем анализ судебной практики по делам о вымогательстве показал, что далеко не всегда суды прибегают к дополнительной квалификации, ограничиваясь лишь вменением виновным состава преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ. Примером может служить приговор Советского районного суда г. Рязани от 26 марта 2015 г. по делу № 1-118/2014 1-9/2015, в соответствии с которым за вымогательство были осуждены гр-не Р. и П., требовавшие от местного чиновника Ф. крупную сумму денег под угрозой распространения позорящих сведений, а также сведений, способных причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего. Свою угрозу виновные в дальнейшем реализовали путем публикации в средствах массовой информации статей, в которых гр-не Р. и П. целенаправленно допускали негативные высказывания в отношении личных и профессиональных качеств Ф., указав, что тот является некомпетентным руководите- лем, а также распространили сведения, позорящие последнего, умаляющие его достоинство, честь и доброе имя, о якобы имеющих место фактах сокрытия Ф. имущества от декларирования, а также совершении злоупотребления своими полномочиями [7]. Несмотря на то, что из содержания приговора можно сделать вывод о наличии в действиях виновных признаков преступления, предусмотренного ст. 128.1 УК РФ «Клевета», суд возможность вменения данного состава даже не рассматривал.
Подводя итог сказанному, отметим следующее. Для того чтобы избежать дальнейших споров о том, что же является «сведениями, позорящими честь и достоинство» личности, а также для более точного и эффективного правоприменения Пленуму Верховного Суда Российской Федерации необходимо конкретизировать понятие «позор», обратить внимание судов на разделение понятий «позорящие» и «иные» сведения и добавить к ним сведения о совершенном потерпевшим преступлении.
Список литературы Содержание шантажа: вопросы теории и практики
- Гаухман, Л. Д. Ответственность за преступления против собственности/Л. Д. Гаухман, С. В. Максимов. -2-е изд., испр. -М.: АО Центр ЮрИнфоР, 2001. -310 с.
- Кочои, С. М. Ответственность за корыстные преступления против собственности/С. М. Кочои. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: , 2000. -288 c.
- О судебной практике по делам о вымогательстве : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 17 дек. 2015 г. № 56//Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». -Режим доступа: локальный.
- Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ//Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». -Режим доступа: локальный.
- Приговор Бутырского районного суда г. Москвы № 1-191/12 от 10 апр. 2012 г. //Судеб. и норматив. акты Рос. Федерации. -Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/yFBpiZ5vt3ZK/(дата обращения: 29.10.2015).
- Приговор Вологодского городского суда № 1-721/2014 от 17 нояб. 2014 г. //Судеб. и норматив. акты Рос. Федерации. -Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/E9uzOVJT23QF/(дата обращения: 27.10.2015).
- Приговор Советского районного суда г. Рязани № 1-118/2014 1-9/2015 от 26 марта 2015 г. //Судеб. и норматив. акты Рос. Федерации. -Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/zBqs4oGgPToH/(дата обращения: 29.10.2015).
- Сафонов, В. Н. Организованное вымогательство: уголовно-правовой и криминологический анализ: моногр./В. Н. Сафонов. -СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. -239 c.
- Щербина, В. В. Уголовно-правовое воздействие на вымогательство: учеб. пособие/В. В. Щербина. -Омск: Изд-во Юрид. ин-та МВД России, 2000. -92 c.