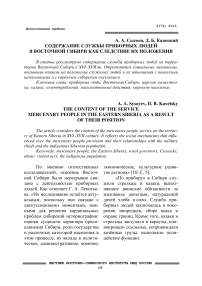Содержание службы приборных людей в Восточной Сибири как следствие их положения
Автор: Сысоев А.А., Кавецкий Д.Б.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Дискуссионная трибуна
Статья в выпуске: 4 (79), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрено содержание службы приборных людей на территории Восточной Сибири в XVI-XVII вв. Отражаются социальные механизмы, оказавшие влияние на положение служилых людей и их отношения с воинскими начальниками и с коренным сибирским населением.
Приборные люди, восточная сибирь, царские наместники, казаки, злоупотребления, насильственные действия, коренное население
Короткий адрес: https://sciup.org/14335791
IDR: 14335791
Текст научной статьи Содержание службы приборных людей в Восточной Сибири как следствие их положения
По мнению отечественных исследователей, освоение Восточной Сибири было неразрывно связано с деятельностью приборных людей. Как отмечает Г. А. Леонтьева, «Их исследование остаётся актуальным, поскольку оно связано с дискуссионными моментами, важными для решения кардинальных проблем сибирской историографии: оценки сущности характера присоединения Сибири, роли государства и различных категорий населения в этом процессе, их вклада в политическое, административное, военное, экономическое, культурное развитие региона» [10. С. 5].
«По прибору» в Сибири служили стрельцы и казаки, выполнявшие воинские обязанности за жалованье деньгами, натуральной дачей хлеба и соли. Служба приборных людей заключалась в покорении инородцев, сборе ясака и охране границ. Кроме того, казаки и стрельцы заступали в караулы, конвоировали ссыльных, сопровождали казённые грузы, выполняли полицейские функции.
За нелёгкую и полную опасностей службу конным казакам выдавалось 7–8 руб. в год, пешим – от 4 до 5 руб. Хлебные оклады составляли от 30 до 50 пудов, а соляные – от 20 до 40 кг.
При наборе десятские и рядовые служилые люди давали сотнику «поручные записи» о том, что «государеву службу служити, а не ворова-ти, корчмы, блядни не держати, и зернью не играти, и не красти, и не розбивати и не сбежати» [19. С. 99].
Однако, как утверждал русский историк-архивист Пётр Никитич Бу-цинский, «приборные люди своё путешествие в Сибирь сопровождали страшными разбоями и грабежами, а для населения тех областей, чрез которые они проезжали, наступали дни величайших бедствий».
Вот как описывает П. Н. Бу-цинский события, произошедшие в вотчине боярина Д. И. Годунова в связи с появлением в ней служилых людей, направлявшихся в Сибирь: «Крестьян били и грабили, жён крестьянских соромотили, убили из пищали крестьянина, а у иных многих крестьян животину коров, свиней побили и платье пограбили, по дороге многих людей били и грабили и ямщикам за подводы прогонов не давали» [3. С. 185].
Другой отряд сибирских первопроходцев под руководством стрелецкого головы Андрея Кубасова разбоями и грабежом опустошил целый уезд. В поданной царю челобитной Соли-Вычегоцкий земский староста Василий Юрьев сообщал о том, что «в 1635 году в марте ехали по твоему указу с Колмогор мимо Соли Вычегоцкой стрелецкий голова Андрей Кубасов, пять сотников, да 500 человек стрельцов, а как они прибыли, то начали старостишку Ваську, посадских целовальников и волостных крестьян и земского дьячка во дворе бить и увечить на правеже насмерть и вымучили у нас великие поминки денег 220 руб. Затем по деревням били и мучили крестьян, забирали коров, овец, свиней и всякое имущество, ломали житницы и выбирали хлеб, били и мучили проводников. И от тех грабежей и насильств волости Усольского уезда запустели, и крестьяне оскудели» [3. С. 186].
Таким образом, ещё на пути в Сибирь приборные люди совершали достаточно большое количество противоправных деяний. Оказавшись же на значительном удалении от центральных властей, обладая существенной автономией, вооружённые и жадные до добычи первопроходцы сопровождали свои сибирские походы неоправданной жестокостью. При этом от произвола служилых людей страдали и уже осевшие на новых землях крестьяне, и коренные жители – инородцы.
В этой связи Иркутский губернский воинский начальник В. К. Андриевич отмечал, что «служба казаков в сибирских городах была заманчива возможностью легко добывать средства, потому что была сопряжена с обязанностью собирать ясак, которая, помимо добро- вольных приношений сопровождалась вымогательствами» [2. С. 149].
О наиболее «громких» происшествиях, связанных со служилыми людьми, сообщал в своих работах русский археограф Н. Н. Оглоблин, исследовавший в конце XIX столетия столбцы и книги Сибирского приказа.
По сведениям Н. Н. Оглоблина, в 1653 г. 27 служилых людей Верхоленского острога под началом Прокофия Кислого и Василия Черкашина попытались уйти в Даурские земли, причём, «пробираясь на Амур, ознаменовали свой путь грабежами и насилиями над торговыми людьми, крестьянами и прочими» [12. С. 158].
Не менее тяжёлые последствия для сибиряков имели события, описанные в «Илимском сыскном деле». Как следует из сохранившихся источников, в 1655–1656 гг. весь Илимский острог и соседние уезды охватило волнение в связи с появлением атамана М. Сорокина, собиравшего «воровской полк» для похода на Амур [16. Л. 4].
Явившись со своими людьми 15 мая 1655 г. на Усть-Кутское зимовье, где проходила ярмарка, Сорокин убил двух промышленных людей и двух ранил. Добычу преступников составили таможенный сбор – 1000 руб. и 50 сороков соболей.
Однако более чем крупной, по меркам того времени, добычи служилым людям оказалось недостаточно. «Сорокинцы» продолжили бесчинства. В первую очередь нападениям подвергались торговые люди. Только у одного из них – Прокофия Фёдорова было ограблено товаров на 2 539 руб. 16 алтын и 4 деньги.
В своём стремлении к преступному обогащению нападавшие не обошли вниманием и имущество царского наместника – якутского воеводы Михаила Семёновича Лоды-женского. Н. Н. Оглоблин приводит данные о том, что «у приехавших на ярмарку людей воеводы сорокинцы пограбили всякие запасы и вина горючие, после чего похвалялись разбоем идти на Илимский острог, убить воеводу Оладьина, а город разграбить» [13. С. 214].
Подобное стремление служилых людей к устрашению сибирских начальников объясняется некоторыми отечественными исследователями как следствие многочисленных случаев казнокрадства со стороны воевод, укрывавших часть хлебного и денежного жалования [6, 7].
Между тем известно, что воинские начальники, назначаемые на службу в Сибирь, формировали отряды приборных людей без особого разбора из всех, выразивших на то желание. На службу верстались и те, кто подлежал жестоким наказаниям за тяжкие преступления. Так, например, в деле 1696 г. «О заморских казаках» приводятся следующие факты из биографии одного из селенгинских служилых людей – Ганьки Безрукого: «Будучи на службе в Тобольске на карауле у бухарских посланцев, товарищей своих двух зарезал ножом и у бухарцев покрал многие животы». Первоначально Г. Безрукий был приговорён к смерти. Однако впоследствии оказался привёрстан к службе в Селенгинский острог [18. Л. 5].
Та же «служилая» участь ожидала казаков, «приступивших под предводительством Петрушки Сорокина в Нарыме к острогу с великим шумом и боем, с канатами и баграми с намерением государеву казну пограбить и торговых людей из острога мучить». Пройдя после этого по заимкам и деревням Тобольского и Енисейского уездов, казаки ограбили «у многих житейских и торговых людей животы и скот», повинились, и, в конечном счёте, были посланы на государеву службу в Удинский и Селенгинский остроги [8. С. 101].
«Наказание за тягчайшие преступления для сибирских первопроходцев являлось символичным», – утверждал в своих трудах П. Н. Бу-цинский. По сведениям автора, «для таких преступников, как разбойники и душегубцы, тюремное заключение продолжалось год, два и редко три, а потом они опять верстались в службу или сажались на пашню» [3. С. 184].
Таким образом, в служилой среде сосредоточивалось значительное количество людей, уже неоднократно преступавших закон, утративших свои социальные связи и проецировавших собственный образ жизни не только на сослужив- цев, но и на отношения с властными структурами. Причём в некоторых случаях взаимные претензии царских наместников и служилых людей перерастали в вооружённое противостояние и сопровождались многочисленными жертвами.
Одно из первых таких происшествий описывается В. К. Андрие-вичем. По сведениям автора, в 1629 г. «50 казаков испросили у воеводы Дубенскаго разрешения идти против бурят, но с тем, чтобы им дозволено было раньше зайти в Енисейск за получением провианта …однако выяснилось, что казаки эти хотели умертвить енисейского воеводу и перерезать гарнизон Енисейска и Маковского острога» [2. С. 152].
Не менее драматично складывались события на Камчатке, где в 1711 г. 75 служилых людей во главе с Данилой Анцифировым решили, «что за дальним расстоянием их жалобы на местных начальников не дойдут до государя», подняли бунт и казнили приказчиков. Подробные обстоятельства расправы над приказчиками описаны В. К. Андрие-вичем. По сведениям автора, 29 января казаками Харитоном Березиным, Григорием Шибановым и Степаном Большаковым за то, что «для своих корыстей к казакам всячески приставал, сажал в казёнку», был убит приказчик Липин. 11 февраля казаки Алексей Постников, Григорий Шибанов и Андрей Петров под предлогом вручения фальшивой челобитной приблизились к казачьему голове Владимиру Атла- сову и зарезали его ножами. 20 марта приборные люди бросили в воду приказчика Петра Чирикова, который, по их мнению, стал жить «не-горазно, забыв страх божий, великого государя денежную соболиную казну воровал» [2. С. 363, 365].
Наиболее массовые выступления приборных людей против царских наместников описываются в работах советских историков Ф. Кудрявцева и Г. Вендриха. Авторы сообщают, что «19 мая 1696 г. около 200 казаков приплыли в Иркутск из-за Байкала моря в боевом порядке: с ружьями и боевыми припасами». Возглавляли казаков Удинского, Селенгинского, Ильинского и Кабанского острогов Семён Краснояр, Кузьма Кудреватый и Антон Березовский. По версии авторов, цель прихода казачьего войска заключалась в истребовании у Иркутского воеводы Афанасия Савелова жалования за 1695 и 1696 гг.
Однако ни хлебного, ни соляного, ни денежного жалования у А. Савелова казакам получить не удалось. Воевода укрылся в Иркутском остроге и, как указывают Ф. Кудрявцев и Г. Вендрих, «лицемерно заявил, будто забайкальские служилые люди на 1695 и 1696 г. все получили» [8. С. 30].
Дальнейший путь забайкальских казаков, отправившихся вниз по р. Ангаре, был отмечен грабежами и убийствами. «В Идинском и Бельском острогах и по заимкам, — докладывал в своей отписке А. Савелов, – служилые люди вся- ких чинов жителей разоряли и животы их пограбили без остатку» [8. С. 31].
Сведения А. Савелова нашли подтверждение в розысках воеводы Ивана Николаева, расследовавшего убийство иркутских служилых людей Прохора Караваева, Данилко Домашнева, Митки Безрукого, Ивашки Мягкого, Фомки Кузнецова и Ивашки Тарханова.
Результаты дознания показали, что «выше Брацкого острога под Кежемскою деревней 40 заморских казаков учинил бой иркутским казакам и убийство и битых шесть человек привезли в Братский и на приезде учинили из ружей стрельбу и после убитых платье и обувь, раскли-кая, продавали и по себе делили, а раненых иркутских поставили на дворы и, приходя, угрожали смертью» [8. С. 110].
События, связанные с бесчинством «заморских» казаков на иркутской земле, оказались фатальными и для воеводы А. Савелова. Последовавшие затем розыски думного дьяка Данилы Полянского, начатые по челобитным письмам Селенгинских служилых людей, открыли факты получения взяток, верстания в неуказанные чины и …измены со стороны самого Иркутского воеводы.
«Будучи де в Иркуцку воеводою, – доносил в своей челобитной Иркутский казак Федор Челюскин, – Афанасий Савелов без указа великого государя и без грамоты верстал многих людей в дети боярские, а иных в атаманы, в пятиде- сятники и десятники, а иным и прежним окладам чинил придачи многие» [17. Л. 7].
Самым тяжким проступком воеводы являлась продажа калмыцкому Бутухтухану огневых припасов к оружию и других товаров, запрещённых к торговле с иностранцами. Подобные деяния царских наместников трактовалось уже как измена.
На похожих принципах строил свою службу Красноярский воевода Алексей Башковский, сумевший всего за два года с 1694 по 1695 г. восстановить против себя всех подведомственных ему служилых людей. Современный исследователь В. Зоркин, описывая те события, отмечает что «все они в своих челобитных обвиняли воеводу в лихоимстве, называли “грабителем и разорителем” за то, что он брал “великие взятки” товарами, деньгами и даже пленными людьми» [4. С. 115].
Кроме того, по сведениям Н. Н. Оглоблина, «красноярцы прямо обвиняли воеводу в “изменном деле” из корыстолюбивых побуждений. Они утверждали, что Баш-ковский посылал в киргизскую “немирную орду” своего человека Якова Аргамачка с свинцом, порохом, “добрыми коням”» и с разными товарами. Всё это выгодно продавалось киргизам, которые с этим же порохом и свинцом приходили “воевать” с красноярцами» [12. С. 45].
Такое явное проявление корыстных устремлений в среде си- бирских начальников не являлось исключительным и носило к указанному времени повсеместный характер. На это указывают исследования как современных, так и дореволюционных историков.
«Злоупотребления были многочисленны и разнообразны», – утверждает отечественный исследователь В. Кулешов. В своём историческом очерке «Наказы Сибирским воеводам в XVII веке», опубликованном в 1896 г., автор приводит сведения о том, что «Енисейский воевода Василий Голохвостов без государева указа верстал в службу гулящих и промышленных людей, а не стрелецких и не казачьих детей и от того брал себе денежное, хлебное и соляное жалованье… многим посадским людям причинял большие убытки, а иных чинов людей бил и мучил и в тюрьму сажал… отдавал на откуп для своей корысти зернь и корчму, а безмужных жён отдавал на блуд и брал от всего этого откупу 100 рублёв и больше, приказывал блудным жёнкам наговаривать на проезжих торговых и промышленных людей напрасно, и тех людей по их оговору, без сыску и без рас-просу сажал в тюрьму» [9. С. 22].
«Нигде, кроме Сибири, злоупотребления воевод не доходили до той грандиозной степени, когда населению становилось совершенно “не мочно жить”», – констатирует Н. Н. Оглоблин [14. С. 44]. Из рассмотренных 106 сыскных дел Сибирского приказа в 52 говорилось о злоупотреблениях воевод и их товарищей [12. С. 179].
Повсеместные и многочисленные случаи превышения полномочий, допускаемые царскими наместниками, ложились тяжким бременем на сибирское население и пагубно воздействовали на поведение служилых людей. На это обстоятельство указывает в своих исследованиях В. К. Андриевич. По мнению автора, «воеводы отдалённых городов были вполне самостоятельны… это обстоятельство способствовало развитию наклонности к произволу как в них самих, так и в их подчинённых исполнителях, то есть в казаках, которые в буквальном смысле слова были вольницею и грабителями, с которыми не всякий мог справиться» [2. С. 154].
Преступное злоупотребление властью со стороны сибирских начальников и поборы, сопряжённые с насилием, чинимые служилыми людьми, крайне негативно отражались на их отношениях с инородцами. Несмотря на царский указ «О нечинении казней и пыток сибирским ясачным инородцам», прямо указывавший, «чтоб ясашных людей не грабили» [2. С. 363], приборные люди, по сведениям В. К. Андриевича, «разоряли инородцев… вымогательство было [их] отличительною чертой в конце XVII столетия, и в Сибири оно достигло наивысшего развития» [2. С. 363].
По утверждению В. Кулешова, «притеснения вызывали среди инородцев нередко бунты: они не платили ясака и отходили в подданство в другие государства» [9. С. 18]. В некоторых случаях ясачное население, стремясь избежать поборов и разорения, совершало наиболее тяжкие преступления – убийства приборных людей.
Так, в феврале 1642 г. инородцами были уничтожены отряды русских ясачных сборщиков Воина Шахова, Алексея Гнутого, Осипа Галкина, Остафия Михалевского и Григория Летнева [5. С. 79].
Спустя шестнадцать лет, по сведениям В. Зоркина, «все приан-гарские и верхоленские буряты, доведённые до отчаяния жестокостями и притеснениями балаганского управителя Ивана Похабова, в 1658 г., убив казаков, разосланных им для сбора ясака, ушли к Монголии» [4. С. 11].
С ещё большей жестокостью отвечали на неповиновение инородцев царские наместники. Наиболее грозную память оставил о себе Якутский воевода Пётр Петрович Головин, расследовавший обстоятельства «Якутской измены 1642 г.». Из документальных источников, описывающих якутские события, известно, что «Головин по этому делу сажал в тюрьму, пытал и жёг огнём, так что многие инородцы с таких пыток и с голоду и со всякой тюремной нужды умирали в тюрьмах… якутов лутчих людей и аманатов повесил 23 человека, а иных выбрав же лутчих людей бил гнутьём без пощады, а с того кнутья многие якуты померли, и тех мёртвых Пётр вешал же» [9. С. 20].
Жестокое отношение царских наместников к проступкам инородцев и попустительство преступным действиям своих подчинённых поощряло вседозволенность и стремление к преступной наживе за счёт коренных жителей, деформировало мироощущение стрельцов и казачества. Вследствие чего изменялись нравственные устои служилых людей. Многожёнство, торговля женщинами, сожительство с родственниками и детьми становились их поведенческой нормой.
Современники тех событий указывали верховным властям на факты «крайне отвратительного полового разврата». П. Н. Буцинский, при исследовании нравственности в казачьей среде отмечал, что «иные женились на сёстрах двоюродных и родных, на дочерях своих, блудом посягая на своих матерей и дочерей». По сведениям автора «многие служилые люди, отправляясь по делам службы в Москву или в другие города, закладывали своих жён на сроки, а те люди, у которых они были в закладе, жили с ними и блуд творили беззазорно до тех пор, пока мужья их не выкупали. Если же по истечении срока мужья не выкупали заложенных своих жён, то кредиторы продавали последних на воровство и на работу всяким людям» [3. С. 266].
По мнению Н. Н. Оглоблина, «развращённость сибиряков в XVII в. превосходила всякую меру… особенно часты были нарушения седь- мой заповеди». В качестве примера археограф приводит сыскные дела об изнасиловании в Енисейске Михаилом Муравьевым своей дочери и об истязаниях и убийстве в Турухан-ском зимовье десятилетнего купленного якутского мальчика Христофора [12. С. 192].
При таком состоянии нравственности отправляемые в Сибирь для продвижения православия и опеки над служилым людом представители духовенства сами преступали закон. Как замечает исследователь иркутской епархии О. Е. Наумова, в этот период «среди священнослужителей были распространены пьянство, вымогательство, воровство, злоупотребления и беспорядки в церковных хозяйствах, которые подрывали авторитет церкви» [11. С. 192].
«А попы сибирских городов, чёрные и белые, такие беззаконения не запрещают… в сибирских монастырях царит полнейший разврат: монахини развратничают и с монахами, и с мирскими людьми… белые попы не учители, а бражники, монастыри служат примером разврата», – указывалось в сообщениях сибирских архиепископов [3. С. 267].
Основными причинами снижения моральных норм среди сибирских первопроходцев церковные иерархи считали значительную удалённость приходов и монастырей от Московского патриархата и пагубное влияние инородческой культуры.
Однако не вызывает сомнений и то, что наряду с внешними факторами определённое влияние на нрав- ственное состояние служилых людей оказывали устои и обычаи, сформированные в ходе покорения сибирских земель. Вторгаясь во внутренний мир коренного населения, стрельцы и казаки частично перенимали образ жизни инородцев, их нравы и быт. Кроме того, не следует забывать, что непременным атрибутом военных походов являлась нажива, сопряжённая с насилием и убийством. По мере их завершения приобретённые в ходе военных действий обычаи обогащения проецировались уже на покорённые территории и население их осваивающее. Удалённость от метрополии и фактическая безнаказанность противоправных деяний обусловливали не только широкое распространение подобных традиций в служилой среде, но и размытость границ между преступлением и военными действиями.
Повсеместные и многочисленные случаи превышения властных полномочий со стороны царских наместников и бездействие представителей духовенства усугубляли ситуацию.
Систематические грабежи и насильственные действия в отношении инородческого населения на покорённых территориях приводили к противодействию со стороны наиболее воинственных его представителей, выражавшемуся в нападении на служилых людей и, как следствие, существенному снижению их личной безопасности.
Всё вместе взятое формировало особое положение служилых лю- дей, существенно отличавшееся от условий службы в Московском государстве. Характерными особенностями их службы в Сибири являлись более низкие требования к соблюдению закона и более высокие риски гибели, распущенность нравов и преобладание культа наживы.
Возможность быстрого незаконного обогащения на примере воинских начальников-воевод детерминировала службу приборных людей, основным вознаграждением за которую являлось уже не государево денежное и хлебное жалование, а возможность безнаказанного совершения грабежей у инородцев, промышленных людей и купцов.
Стремление к наживе зачастую превалировало над служебными обязанностями и вело к прямому неподчинению царским наместникам в форме вооружённого бунта.
Таким образом, благодаря воздействию целого ряда факторов, обусловливавших положение приборных людей, фактическое содержание их службы в Восточной Сибири представлялось во многих случаях уже как нарушение существовавших законов и при определённых обстоятельствах переводило их из разряда служилых в разряд «воровских людей».
Список литературы Содержание службы приборных людей в Восточной Сибири как следствие их положения
- Александров В. А. Материалы о народных движениях в Сибири в конце ХVII в.//Археографический ежегодник. -1961. -С. 345-386.
- Андриевич В. К. История Сибири. Период от древнейших времен до установления главенства города Тобольска и основания Иркутского острога. -СПб., 1889.
- Буцинский П. Н. Заселение Сибири и быт первых её насельников. -Харьков: Тип. губ. правления, 1889.
- Зоркин В. И. Иркутские градоначальники: Воеводы и вице-губернаторы (1661-1764). -Кн. 1. -Иркутск: Репроцентр А1, 2011.
- Ионова О. В. Из истории якутского народа (первая половина XVII века). -Якутск, 1945.
- Кудрявцев Ф. А. Восстания крестьян, посадских и казаков в Восточной Сибири в конце XVII в. -Иркутск, 1939.
- Кудрявцев Ф. А. От казачьего зимовья до советского Иркутска. -Иркутск, 1940.
- Кудрявцев Ф., Вендрих Г. Иркутск, очерки по истории города. -Иркутск, 1971.
- Кулешов В. Наказы Сибирским воеводам в XVII веке: исторический очерк. -Белград, 1894.
- Леонтьева Г. А. Служилые люди в Восточной Сибири во второй половине XVII -первой четверти XVIII вв. (по материалам Иркутского и Нерчинского уездов). -М., 2012.
- Наумова О. Е. Иркутская епархия, XVIII -первая половина XIX в. -Иркутск: Изд-во Иркут. гос. техн. ун-та, 1996.
- Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592-1768 гг.). Ч. 1: Документы воеводского управления. -М., 1895.
- Оглоблин Н. Н. Бунт и побег на Амур «воровского полка» М. Сорокина//Русская старина. -1896. -С. 214.
- Оглоблин Н. Н. Красноярский бунт 1695-1698 гг.//Журнал министерства народного просвещения. Седьмое десятилетие. -СПб.: Тип. В. С. Балашева и Ко, 1901. -С. 45.
- Полное собрание законов Российской Империи: Собрание первое: С 1649 по 12 декабря 1825 г. -СПб.: Тип. 2 отд. Собств. Е. И. В. канцелярии, 1830. -Т. 3.
- Российский государственный архив древних актов (РГДА). Ф. 214. Оп. 3. Д. 1745.
- Русская историческая библиотека. Т. 2 -СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1875.