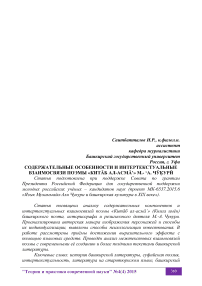Содержательные особенности и интертекстуальные взаимосвязи поэмы "Китaб ал-асмa’" М.- ‘А. Чкур
Автор: Саитбатталов И.Р.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 5 (5), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья подготовлена при поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских учёных - кандидатов наук (проект МК-6537.2015.6 «Язык Мухаммада-Али Чукури и башкирская культура в XIX веке»). Статья посвящена анализу содержательных компонентов и интертекстуальных взаимосвязей поэмы «Китāб ал-асмā’» (Книга имён) башкирского поэта, историографа и религиозного деятеля М.-А. Чукури. Проанализирована авторская манера изображения персонажей и способы их индивидуализации, выявлены способы психологизации повествования. В работе рассмотрены приёмы достижения выразительного эффекта с помощью языковых средств. Проведён анализ межтекстовых взаимосвязей поэмы с современными её созданию и более поздними текстами башкирской литературы.
История башкирской литературы, суфийская поэзия, интертекстуальность, литература на старотюркском языке, башкирский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/140266660
IDR: 140266660
Текст научной статьи Содержательные особенности и интертекстуальные взаимосвязи поэмы "Китaб ал-асмa’" М.- ‘А. Чкур
Поэма Мухаммада-ʻАлӣ Чӯк̣урӣ (1826-1889) «Китāб ал-асмā’» (Книга имён), написанная около 1858 года и дошедшая до нас в составе рукописного сборника «Манз̣умат ʻАлийа»39, представляет собой не только интересное художественное произведение, но и важный исторический документ, так как фиксирует множество реалий башкирской культуры первой половины XIX века: в ней детально описана учебная программа старометодных башкирских медресе, поимённо названы 22 имама, мударриса, хальфы и члена их семей, указаны важные годы жизни самого автора и его близких, присутствуют данные о способах счёта времени, бытовавших в то время у башкир, и множество других примет эпохи. Поэма является очень редким документом о жизни башкирской ʻуламы (носителей религиозного знания) позапрошлого века, исходящим изнутри этой социальной группы. Всё это делает «Книгу имён» ценным биографическим, историческим и этнографическим источником.
Произведение изображает трёх религиозных деятелей и педагогов в традициях жанрах мадхийа, однако придаёт всем им черты живых, настоящих и, что очень важно, разных людей. Разные имамы изображены с помощью разных средств. Портрет имама Тавабиля из аула Югамаш создаётся путём его характеристики с точки зрения возраста, значения имени, родства с автором, стиля одежды, трудолюбия, а также индивидуальных особенностей речи. Прямая речь этого героя введена в текст дважды. В первом случае это его обращение к ученикам, во втором – разговор с автором наедине. Имам Наср ад-Дин из села Бураево описан с точки зрения знатности рода, места получения образования, заслуг перед местной мусульманской общиной, вида окормляемой им мечети, чистоты жилища, брачных взаимосвязей и нравственного облика детей. Дополнительным средством положительной характеристики является игра слов по созвучию с именем: Наср ад-Дин (Победитель веры) – Баср ад-Дин (показывающий веру). Имам Ахмер из села Казанчи изображён как герой рассказа-воспоминания о его детстве. Поэма, таким образом, является
-
39 Чӯк̣урӣ, М. ʻА. Манз̣умат ʻАлийа [Рукопись]. – ОРРК НБ РБ им. А. З. Валиди, Р-3940. – С. 188-208. (тюрки, араб. гр.)
относительно редким для XIX века крупным поэтическим произведением, в котором предпринята попытка индивидуальной социально-психологической характеристики реальных людей.
В «Книге имён» тонко и достоверно изображены межличностные отношения – автора и его родителей, автора и отца, автора и каждого из наставников, имама Тавабиля и отца. Причём взаимоотношения внутри семьи, хотя и выстроены в соответствии с требованиями Корана и Сунны (взаимная любовь, безусловное почтение и подчинение младшего старшему, патриархат), эволюционируют и развиваются отнюдь не прямолинейно. В начале поэмы это ничем не омрачаемое детское чувство, в бейтах 97-106 – зреющий под спудом беспрекословного послушания конфликт между любящим родителем, нуждающемся в помощи по дому и хозяйству, и взрослым уже сыном, жаждущим продолжить образование, сразу же после – ретроспективный анализ отцовской любви и её проявлений и трогательная сцена прощания. Поэма М. А. Чӯк̣урӣ может по праву быть названа одним из лучших в башкирской литературе XIX века художественных воплощений семейных взаимоотношений. Их характер прямо повлиял и на стиль обращений автора к читателю, которым изначально должен был стать один из его сыновей: наставления звучат не как приказы, требующие беспрекословного подчинения, а как интимный разговор отца с сыном, естественный и непринуждённый.
Душевные переживания и духовные искания лирического героя в поэме также изображены весьма тонко, но уловимо. Смена настроения и эмоционального фона всякий раз маркируется привлечением новых языковых средств, резким контрастом стиля вплоть до введения иноязычных бейтов. Так рассказ о внутреннем кризисе на фоне первых педагогических успехов и о приходе в суфийское братство начинается бейтом, первая мисра которого написана практически разговорным стилем, а вторая – включает сразу два суфийских термина арабского происхождения, персидское лексическое заимствование и огузский союз: « Йәшем ун йетегә джитде дигәндә / Бу нәфес әммарә ғаҡылилә джәнкдә ». Между бейтами 120 и 121, рассказывающими о волнениях по пути в Мензелинский уезд, и бейтом 124, сообщающим о благополучном исходе путешествия, расположены два двустишия на арабском языке.
Момент наибольшего эмоционального напряжения лирического героя – эпизод сознательного прихода в суфийское братство-тарикат в 17-летнем возрасте. Нравственные открытия, которые стали непосредственным поводом к мольбам об избавлении от любви к преходящему миру, изложены в бейтах 74-79. Последний написан на фарси, первые пять содержат 53 слова, из которых тюркскими являются лишь 13 (7, не считая повторяющихся), причём два из них – местоимения бу (это) и без (мы), три – модальные глаголы булыу (быть), ҡылыу (делать), әйләү (делать) и два – полнозначные глаголы булыу (находить; огузское заимствование) и дөшөү (падать). Столь резкий лексический контраст с контекстом вызван, по-видимому, целым рядом факторов. М. А. Чӯк̣урӣ творил в эпоху и в рамках традиции, требовавшей для «высокого» содержания «высокой» формы и считавшей таковой арабский язык – язык священного писания, пророка и его сподвижников. В ортодоксальном исламе тасаввуф считается религиозной наукой, обладающей собственным терминологическим аппаратом арабского и отчасти персидского происхождения. Мотивы прихода к братству относительно редко становятся предметом описания даже в суфийской литературе, так как могут быть сугубо интимными – возможно, автор «Книги имён» сознательно сделал этот эпизод недоступным для профанов.
Поэма «Китāб ал-асмā’» М. ʻА. Чӯк̣урӣ обладает многочисленными интертекстуальными связями. В ней упоминаются разнообразные учебники для медресе, классические богословские труды и их авторы, а также одно художественное произведение – «К̣ас̣ӣдат ал-Бурда» североафриканского суфия и поэта Мухаммада ибн Саида аль-Бусири (1211-1294)40. Сам факт упоминания данного труда достаточно красноречиво свидетельствует о том, насколько широко простирались познания автора в классической мусульманской учёности и искусстве. Ряд персонажей (родители автора, имам Тавабиль, мударрис Фазыл, имам Наср ад-Дин) встречается в других его поэтических («К̣āфийат ал-ас̱āр», «А‘лāм хāдӣ»), прозаических («Машāйих̱ ‘Алӣ Г̣āрӣ Бахарӣ») и историографических («Таз̱кират ли-ль-ихвāн ва-ль-ахбāб») сочинениях, а также упоминаются в энциклопедии «Āс̱āр» Риза ад-Дина ибн Фахр ад-Дина41. Единожды поэт сам отсылает читателя к другом своему произведению, посвящённому мечети в селе Бураево. Некоторые мотивы (разлука и встреча с отцом, адресация произведения своему ребёнку) роднят произведение с трудами Тадж ад-Дина ибн Ялсыгула аль-Башкурди42, другие (конфликт с отцом, отъезд из дома на отцовской лошади, воспоминания об учёбе в медресе) – с произведениями «Письмо отцу» и «Посмертная ода Шигабутдину Марджани» Акмуллы43. Идея подачи разнообразного материала по именам не нова для мусульманской культуры: первые «Книги об именах и прозвищах» были созданы учёными-хадисоведами ещё в IX веке нашей эры44 [6. С. 95 96], но в рамках башкирской литературы исследуемого периода работа М. ʻА. Чӯк̣урӣ является первым сборником поэтических биографий. Заложенная поэтом и мистиком традиция нашла своё неожиданное продолжение в сатирических произведениях «Книга людей» и «Сад имён» Ш.М. Бабича45
-
40 Ислам: Энциклопедический словарь. – М.; Наука: главная редакция восточной литературы, 1991. – С. 44.
-
41 Фахретдинов Р.Ф. Избранные произведения / текстологическая обработка, составление, предисловие и комментарии М.Х. Надергулова. – Уфа: Китап, 2009. – C. 187-189, 218-220. (на башк. яз.)
-
42 История башкирской литературы. В шести томах. 2-й том. Литература XIX – начала ХХ веков. – Уфа: Башкирское книжное издательство, 1990. – С. 58. (на башк. яз.)
-
43 Акмулла, М.К. Стихи / сост. и комм. А.Х. Вильданов. – Уфа: Башкирское книжное издательство, 1981. – С. 44-46, 199-200. (на башк. яз.)
-
44 Ислам: Энциклопедический словарь. – М.; Наука: главная редакция восточной литературы, 1991. – С. 95-96.
-
45 Бабич, Ш.М. Избранные произведения / сост., ред., пред., комм. А.И. Харисова. – Уфа: Башкирское книжное издательство, 1958. – C. 199-237. (на башк. яз.)
(1895-1919) [2. С. 199 237]. Таким образом, поэма «Китāб ал-асмā’» М. А. Чӯк̣урӣ представляет собой своеобразное и интересное художественное произведение и демонстрирует множество связей с разнообразными текстами башкирской культуры XVIII-XX веков и является её неотъемлемой частью.
Список литературы Содержательные особенности и интертекстуальные взаимосвязи поэмы "Китaб ал-асмa’" М.- ‘А. Чкур
- Акмулла, М.К. Стихи / сост. и комм. А.Х. Вильданов. - Уфа: Башкирское книжное издательство, 1981. - 224 с. (на башк. яз.)
- Бабич, Ш.М. Избранные произведения / сост., ред., пред., комм. А.И. Харисова. - Уфа: Башкирское книжное издательство, 1958. - 292 с. (на башк. яз.)
- Ислам: Энциклопедический словарь. - М.; Наука: главная редакция восточной литературы, 1991. - 315 с.
- История башкирской литературы. В шести томах. 2-й том. Литература XIX - начала ХХ веков. - Уфа: Башкирское книжное издательство, 1990. - 582 с. (на башк. яз.)
- Фахретдинов Р.Ф. Избранные произведения / текстологическая обработка, составление, предисловие и комментарии М.Х. Надергулова. - Уфа: Китап, 2009. - 304 с. (на башк. яз.)
- Чӯк̣урӣ, М.-ʻА. Манз̣умат ʻАлийа [Рукопись]. - ОРРК НБ РБ им. А.-З. Валиди, Р-3940. - 238 с. (тюрки, араб. гр.)