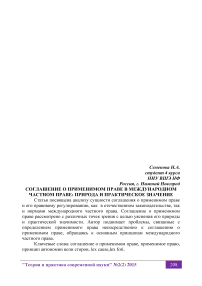Соглашение о применимом праве в международном частном праве: природа и практическое значение
Автор: Семенова Н.А.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 2 (2), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу сущности соглашения о применимом праве и его правовому регулированию, как в отечественном законодательстве, так и нормами международного частного права. Соглашение о применимом праве рассмотрено с различных точек зрения с целью уяснения его природы и практической значимости. Автор поднимает проблемы, связанные с определением применимого права непосредственно к соглашению о применимом праве, обращаясь к основным принципам международного частного права.
Соглашение о применимом праве, применимое право, принцип автономии воли сторон
Короткий адрес: https://sciup.org/140266403
IDR: 140266403
Текст научной статьи Соглашение о применимом праве в международном частном праве: природа и практическое значение
Действующее законодательство РФ, не содержит четких формальных критериев к форме соглашения о применимом праве. Существует лишь требование законодателя относительно выражения соглашения: оно должно быть прямо выражено или должно определенно вытекать из условий договора либо совокупности обстоятельств дела. В Определении Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.01.2012 N ВАС–16010/11 по делу N А56– 34725/2010 закреплено, что прямым выражением воли сторон о выборе применимого права является указание в договоре на применение нормативных актов или законодательства государства [i]. При этом, выбор российского права не исключает применения к договорным отношениям норм Венской Конвенции.
Здесь возникает вопрос, как толковать соглашение о применимом праве: как отдельный договор, устанавливающий применимое право к правам и обязанностям сторон или же, как часть договора международной купли–продажи. или же, как часть арбитражного соглашения. При сравнении соглашения о применимом праве и арбитражного соглашения, которое имеет собственные отличительные формальные черты, позволяющие рассматривать его как отдельный от договора документ, необходимо сделать вывод о том, что недопустимо смешение этих документов. К арбитражной оговорке применяется множество норм, содержащих жесткие требования к форме и порядку заключения. Тем не менее, нет оснований для распространения формальных требований арбитражного соглашения на соглашение о применимом праве, даже в случае, когда такое соглашение содержится в тексте арбитражной оговорки.
Само собой, соглашение о применимом праве имеет свои отличительные черты, которые влекут определенные последствия, имеющие значение для практики. Во–первых, суд обязан учитывать соглашение к правоотношениям из договора, в том числе, для признания договора недействительным служат предписания того права, которое указано в соглашении. Однако, после вынесения решения о признании договора ничтожным вместе с соглашением о применимом праве, у суда возникает необходимость возвращаться к вопросу о применимом праве. Во–вторых, соглашение о применимом праве не носит коммерческий характер, в отличие в целом от договора международной купли–продажи товаров. В–третьих, множество государств по всему миру на законодательном уровне не устанавливают, какими нормами необходимо руководствоваться сторонами при выборе права в соглашении, и суду при рассмотрении действительности и допустимости соглашения о применимом праве.
При рассмотрении выражения автономии воли сторон как соглашения необходимо определить, каким правопорядком должно данное соглашение регулироваться. Многие авторы настаивают на том, что соглашение сторон о применимом праве должно рассматриваться с позиции закона суда (далее -lex fori). В частности, на данной точке зрения настаивают авторы, рассматривающие автономию сторон как одну из коллизионных привязок. В практике Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово– промышленной палате РФ также есть решения, в которых арбитры оценивают соглашение о применимом праве с позиции lex fori. Так, в решении от 19 августа 2009г. № 123/2008, от 30 июня 2010г. № 242/2009, от 28 января 2010г. № 94/2009, от 30 декабря 2009г. № 74/2009г. суд оценивал соглашение сторон о применимом праве с позиции ст. 1210 ГК РФ [ii]. В данной ситуации идет столкновение двух правовых систем. С одной стороны, контрагенты путем выражения своей воли подчинили свои отношения определенному правопорядку, но санкционирован данный порядок может быть только путем признания его lex fori. С другой стороны, в данной ситуации признание выбора права сторонами может осуществляться, основываясь на нормах закона, которому стороны не подчиняли свои отношения. Так, стороны могут руководствоваться при заключении договора, в частности, соглашения о применимом праве, одним правопорядком, которому они и подчиняют свои отношения по договору, а суд будет рассматривать соглашение о применимом праве с позиции иного законодательства. Так, Р. Мозер отмечает, что при «современном состоянии международного частного права неясность относительно определения lex fori, и, соответственно, коллизионного права, подлежащего применению, царит во всех фактических составах с иностранным элементом. Автономия воли сама является содержанием коллизионной нормы и разделяет поэтому ее судьбу» [iii]. Мы считаем, что рассмотрение соглашения о применимом праве с позиции lex fori противоречит самой природе принципа автономии воли сторон, так как действительность lex voluntatis не зависит от действительности договора в целом. Стороны согласовали правовую систему, которая призвана регулировать их взаимоотношения. Стороны руководствуются нормами данной правовой системы не только при исполнении договора, но и в процессе его заключения, согласования условий договора с положениями избранного права.
Данной точки зрения также придерживается Ф. Гамильшег, говоря о том, что надлежащим правопорядком относительно соглашения сторон о применимом праве будет являться право, определенное сторонами – lex causae [3]. Указанное мнение представляется нам весьма логичным, поскольку, устанавливая право, стороны руководствовались его положениями и при составлении договора и намеривались руководствоваться им впоследствии при исполнении договора. При таком рассмотрении принципа автономии воли становится очевидным, что соглашение о применимом праве необходимо рассматривать с позиции права, избранного сторонами. Применение права суда может привести к тому, что соглашение о применимом праве будет признано недействительным, поскольку не были соблюдены требования lex fori. В то же время применение иного законодательства, избранного судом самостоятельно, не взирая на соглашение сторон, может привести к недействительности и иных положений договора, поскольку стороны руководствовались иным правом нежели суд. Как отмечал В. Хаудек, рассматривать соглашение о применимом праве с позиций избранного сторонами права, также противоестественно как определять гражданство лица по праву той страны, гражданином которой он не является.
Момент волеизъявления о выборе применимого права ранее не регулировался отечественными коллизионными нормами, однако Федеральный Закон от 30.09.2013 N 260–ФЗ «О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса РФ» существенно изменил данную ситуацию [iv]. Теперь предусмотрено два момента согласования применимого права: при заключении договора или в последующем. Кроме этого, как показывает судебная практика, соглашение сторон о применимом праве может быть достигнуто и в ходе судебного разбирательства, причем не только путем прямого согласования применимого права, а также путем косвенного указания на определенный правопорядок как истцом, так и ответчиком [v]. Например, в Деле № 242/1996, решение от 26 февраля 1998г. Международный арбитражный суд при Торгово–промышленной палате РФ признал применимым российское право, хотя ни договор, ни последующее соглашение сторон на данное право не указывали [vi]. Суд пришел к выводу о допустимости применения норм российского права на основании того, что и истец в исковом заявлении обосновывал свои требования нормами российского законодательства, и ответчик, приводя свои доводы, оспаривал применение конкретной нормы российского законодательства. Так стороны молчаливо согласовали применимое право, на основании которого и был судом разрешен спор.
Наиболее верно считать соглашение о праве своеобразным соглашением, для которого законодатель может установить своеобразные требования. Так, в ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» законодатель устанавливает требование к арбитражной оговорке, которая должна быть выражена в письменной форме [vii]. Аналогичного положения о соглашении о праве законодательство РФ не содержит. Как отмечает И.С. Зыкин, «закон не содержит каких–либо особых требований в отношении формы соглашения о выборе права. Поэтому допустимо заключение такого соглашения и в устной форме» [viii].
Так как соглашение о применимом праве по своей природе является гражданско–правовой сделкой с собственной спецификой, вполне закономерно наличие его предмета – это выбор сторонами применимого права к договорным обязательствам, а именно: толкование, исполнение, прекращение договора и права и обязанности сторон, последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения, последствия недействительности договора. Стороны вправе договориться о применении права того или иного государства как ко всему договору, так и к его части в соответствии со п.4 ст.1210 ГК РФ, так называемый кумулятивный выбор применимого права. Стороны в соответствии со ст.6,12,96 Венской Конвенцией могут полностью отказаться от ее применения относительно договора, за исключением положений о форме договора, прекращений или изменений договора, в случае если государство–участник Конвенции сделало заявление.
Выбор сторонами применимого права, к договору купли–продажи товаров, не всегда определит окончательное разрешение коллизионного вопроса. ГК РФ в п. 5 ст. 1210 устанавливает, что выбор сторонами применимого права не может затрагивать действие императивных норм права той страны, с которой изначально были связаны обстоятельства, касающиеся существа дела. Здесь возникает вполне закономерный вопрос о широте толкования термина «императивные нормы»: имеются ли ввиду нормы непосредственно применения, противоречие которым и так не допущено законом. Или же речь идет о запрете обхода всего комплекса императивных ном правопорядка, с которым были связаны обстоятельства, касающиеся существа дела, изначально. В таком случае стоит учитывать весь массив императивных норм, предусмотренных том или ином законодательстве, что в принципе крайне проблематично для сторон.
В российском законодательстве не закреплено право изменения ранее выбранного права, применимого к договору купли–продажи товаров. Логично сделать вывод о том, что стороны в силу изменения обстоятельств могут изменить ранее выбранное право. Во–первых, стороны могут руководствоваться одним из основополагающих принципов международного частного права – принцип автономии воли сторон. Во–вторых, российское коллизионное регулирование допускает возможность изменения применимого к договору права, кроме того, такое изменение будет иметь обратную силу, если не причиняет ущерба правам третьих лиц. Это было подтверждено в позиции ВАС РФ в Определении от 6.06.2012 г. № ВАС– 3227/12 [ix].
Таким образом, в первую очередь необходимо четко разграничивать соглашение о применимом праве и арбитражное соглашение, так как они имеют разное назначение. Если в арбитражном соглашении сторонами выбирается способ урегулирования разногласий, в который будет переданы все или определенные споры, которые возникли в связи с исполнением договора, то в соглашении о применимом праве стороны выбирают право, применимое к правоотношениям, вытекающим из договора. Придание обособленности соглашению о применимом праве позволит упростить разрешение споров между сторонами, даже при признании договора ничтожным, как в случае с арбитражным соглашением. Устанавливающие положения соглашения о применении тех или иных материальных норм конкретной системы права обеспечивают соблюдение принципа автономии воли сторон в полном объеме и позволяют суду, руководствуясь волеизъявлением сторон, сократить время рассмотрения дела в связи с отсутствием необходимости поиска материальных норм. Кроме того, оба соглашения могут быть подчинены сторонами различному применимому праву, что противоречит объединению арбитражного соглашения и соглашения о применимом праве. Поэтому наиболее обоснованно считать их двумя отдельными самостоятельными договорами, даже при условии их объединения в одном условии договора.
Список литературы Соглашение о применимом праве в международном частном праве: природа и практическое значение
- Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.01.2012 N ВАС-16010/11 по делу N А56-34725/2010. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=249256 (дата обращения 11.05.2015).
- Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2004 г. / Сост. М.Г. Розенберг. М., 2005, с.193-205
- Толстых В.Л. Коллизионное регулирование в международном частном праве: проблемы толкования и применения раздела VII части ГК РФ. М., 2002.
- Федеральный закон РФ «О внесении изменений в часть третью Гражданского Кодекса РФ» от 30.09.2013 N 260-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. 07.10.2013, N 40 (часть III), ст. 5030.
- Постановление ФАС Московского округа от 5 декабря 2003 г. N КГ-А40/9513-03 по делу N А40-47669/02-69-492. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=AMS;n=65904 ( дата обращения 14.05.2015).
- Розенберг М.Г. Договор международной купли-продажи товаров: Комментарий к правовому регулированию и практике разрешения споров. М., 2010.
- Федеральный Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» от 07.07.1993 N 5338-1 (ред. от 03.12.2008). // Российская газета. N 156, 14.08.1993.
- Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. М., 1994. С. 72.
- Определение ВАС РФ от 06.06.2012 N ВАС-3227/12 по делу N А07-12231/2008-Г-ДИР/МИТ. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=279055 (дата обращения 12.05.2015).