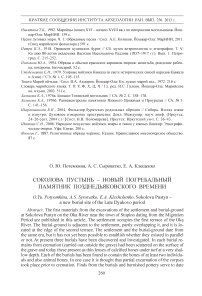Соколова пустынь - новый погребальный памятник позднедьяковского времени
Автор: Потемкина О.Ю., Сыроватко А.С., Клещенко Е.А.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Проблемы и материалы
Статья в выпуске: 230, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье опубликованы первые материалы раскопок поселка и захоронения Соколова Пустынь на реке Ока в районе города Ступино, датируемые Миграционным периодом. Поселок занимает первую террасу Окавер. Усыпальница примыкает к поселку, частично перекрывая его, и он расположен на краю второй террасы. Поселение и место захоронения с той же эпохи, но пока не удалось установить, существовали ли они в параллеле. В настоящее время обнаружены и исследованы три захоронения. В каждой погребальной сети от кремации (проведенной вне могилы) были разбросаны по поверхности могилы, и сегодня они представляют собой тонкие линзы кальцинированных костей под дерном на очень низкой глубине. Было обнаружено, что каждое из захоронений содержит кости, по меньшей мере, двух индивидуумов, а также костей животных. В одном случае считается, что частичное выкапывание места для кормления до кремации. Находки из погребений и полированной керамики служат для захоронения до 5-7 веков. Это захоронение является первым местом, которое было обнаружено в южной части Московской области, где период середины и второй половины 1-го тысячелетия нашей эры не был широко изучен.
Могильник с кремациями, селище, позднедьяковская культура, мощинская культура, эпоха великого переселения народов
Короткий адрес: https://sciup.org/14328554
IDR: 14328554
Текст научной статьи Соколова пустынь - новый погребальный памятник позднедьяковского времени
Погребальный обряд как дьяковской культуры, так и ее наследниц, долгие годы остается актуальной темой. Общепринято говорить о его малой изученности, и хотя с момента выхода статьи К.А. Смирнова (1990) сделано немало ярких открытий, в целом вопрос остается не проясненным. Действительно, каждое новое открытие кремаций, как дьяковских, так и позднедьяковского времени, оказывалось не похожим на предыдущие. Достаточно сопоставить погребения Сав-вино-Сторожевского монастыря, многочисленных теперь памятников Заволжья, Дунино 4 и Настасьино, чтобы увидеть, что, несмотря на общие детали, разница в погребальном обряде велика ( Краснов Ю.А., Краснов Н.А. , 1978; Башенькин , 1995; 1996; Кренке , 2011. С. 211-214). Та же ситуация - с более поздними кремациями Березняков, Ратьковского могильника и все теми же погребениями Русского Севера: при наличии общих черт единства в обряде не наблюдается ( Третьяков , 1941; Башенькин, Васенина , 2004; Вишневский и др. , 2004; 2007). Важность обнаружения еще одного погребального памятника позднедьяковского времени очевидна.
Поселение Соколова Пустынь открыто Т.И. Степановой в 1992 г. в ходе обследования территории, прилегающей к стоянке эпохи бронзы «Лесосплав», на которой ею велись раскопки. В начале нынешнего столетия мониторинг памятника и сбор подъемного материала осуществлялся сотрудниками Ступинского историко-краеведческого музея.
Селище расположено в 1 км к ЗСЗ от юго-западной окраины д. Соколова Пустынь, на левом берегу Оки, в 150 м от русла, у слияния ручья с поймой Оки. Основная часть памятника занимает первую террасу Оки, протянувшись на 100 м вдоль берега и примерно на 150 м вглубь, вдоль ручья. Площадь его составляет более 1000 м2. В глубине площадки рельеф памятника осложнен дюнными процессами, слой селища и могильника перекрывает дюнный песок, в то время как материал мезолитического времени и эпохи бронзы встречается в самом песке. Вопрос о наличии второй террасы остается пока открытым. Вся площадка поросла густым сосновым лесом, ближе к реке - кустарником. С северо-запада на юго-восток селище пересекает шоссейная дорога в д. Головлино. Территория памятника нарушена заплывшими окопами времен Великой Отечественной войны, постройками водозабора и дюкером водопровода, ежегодно разрушается новыми противопожарными траншеями.
Работы на памятнике начались в 2008 г. Целью раскопок был сбор информации о поселениях позднедьяковского времени на этом участке русла Оки, поскольку в районе устья р. Москвы их практически нет: на левом берегу материал этого времени известен только на Протопоповском городище, а на правом берегу – в Щурово, Усть-Матырке 1 и Ростиславле. Вблизи г. Ступино известно еще селище Лужники, подъемный материал с которого также относится к позднедья- ковскому времени, но раскопок на этом памятнике не было. Исследование поселения позднедьяковского времени представлялось тем более перспективным, что сведений о Щурово и Ростиславле накопилось довольно много и появился, таким образом, материал для сопоставления.
Раскоп 1 располагался на ровном участке в средней части площадки, недалеко от водозабора. Площадь его около 45 м2. Культурный слой составлял в среднем 30 см. В раскопе прослежена яма (участок 1), глубиной 1,5 м, чашеобразной формы, с трехслойным заполнением (темно-серый песок с находками, стерильная прослойка серого песка, небольшая прослойка темно-серого песка с находками). Индивидуальные находки из этого раскопа весьма разнообразны: биконические пряслица (целые и большое количество фрагментов), фрагменты миниатюрных сосудов (чернолощеные и гладкостенные), чернолощеная погремушка, фрагменты льячек, глиняные шарики, пронизь бронзового сплава, бронзовые круглые в сечении стержни, октаэдральные бусы синего полупрозрачного стекла. Над упомянутой ямой, в перекрывающем ее слое, найдена железная сюльгама с завернутыми концами. Эта находка, а также мелкие кальцинированные косточки, заставили предположить наличие вблизи раскопа погребений с кремациями, хотя известные к настоящему времени погребения на этом памятнике найдены все же несколько в стороне. Керамический материал в целом укладывается в мощинский или позднедьяковский контекст, датируя памятник второй – третьей четвертями I тыс. н. э.
К настоящему времени на памятнике известны три погребения, два из которых обнаружены в результате их повреждения противопожарными траншеями 2010–2011 гг. (площадка памятника и лес вокруг сильно выгорели летом 2010 г.). Все они найдены на самой верхней площадке, на склоне дюн (вероятно, это край второй террасы, рельеф которой осложнен дюнными процессами)1.
Перейдем теперь к описанию погребений. Два из них (1 и 2) представляли собой тонкие линзы кремированных костей, залегавших прямо под дерном. Оба скопления либо почти смыкались друг с другом, либо являлись одним скоплением – их разделила противопожарная траншея. Оба скопления сильно турбирова-ны корнями деревьев. Нам не удалось выявить следов надмогильных конструкций и каких-либо вместилищ для костей.
В отвале противопожарной траншеи найдена серия предметов с фрагментами кальцинированных костей, которые могли относиться к любому из этих погребений. Это две сюльгамы (см. цв. вклейку, рис. XVI, 1, 2 ) с завернутыми перпендикулярно плоскости кольца концами, не выступающими за ширину поперечного сечения кольца (сечение их округлое и прямоугольное); железная округлая пряжка с хоботковидным язычком с уступом; железный нож, железное кресало (см. цв. вклейку, рис. XVI, 3, 4, 5 ).
Сюльгамы с округлым сечением кольца найдены в погребениях Селиксен-ского (конец IV – первая половина V в.) и Тезиковского (вторая половина V в.)
могильников. Сюльгамы с прямоугольным сечением кольца найдены в погребениях Селиксенкого (вторая половина IV – начало V в.), Армиевского (VI–VII вв.) могильников, в погребениях Андреевского кургана (первая половина I – начало II в.), в Никитинском могильнике в комплексе с крестовидной фибулой второй половины V–VI в. ( Ахмедов , 1999. С. 60).
Непосредственно в скоплениях костей находки также многочисленны. В скоплении 1 найдены пять фрагментов спиральных пронизей бронзового сплава из сегментовидного в сечении дрота (см. цв. вклейку, рис. XVI, 12, 14, 15 ); бусина красного глухого стекла (см. цв. вклейку, рис. XVI, 20 ), а также слитки расплавленного стекла от бус синего, зеленого и желтого цветов (см. цв. вклейку, рис. XVI, 18, 19 ); овальная железная пряжка с хоботковидным язычком (см. цв. вклейку, рис. XVI, 6 ). Пряжки с овальной рамкой вряд ли поддаются узкой датировке. Но язычок пряжки - хоботковидный, выступающий за рамку, – по аналогиям можно предварительно отнести к IV–V вв. ( Михайлова , 2010. С. 137). Спиральные пронизи также, на наш взгляд, не поддаются датировке – подобные детали украшений распространены очень широко, их можно встретить как в погребениях середины I тыс. н. э. ( Фура-сьев , 2001. С. 100), так и в Щуровских грунтовых кремациях конца VIII - начала X в.
Состав находок в скоплении 2 следующий: сюльгама бронзового сплава (см. цв. вклейку, рис. XVI, 9 ) с завернутыми концами, не выступающими за ширину поперечного сечения кольца (округлое), язычок отсутствует; биметаллическая пряжка (см. цв. вклейку, рис. XVI, 7 ) - железная рамка (овальная или В-образная, сильно корродированная) с бронзовым хоботковидным язычком с уступом и поперечными нарезками на конце и основании язычка; пять фрагментов пронизей бронзового сплава из сегментовидного сечения дрота разнообразной длины и ширины (см. цв. вклейку, рис. XVI, 11, 13 ); фрагменты оплавленных стеклянных бус зеленого и желтого цветов (см. цв. вклейку, рис. XVI, 16 ), золотостеклянная пронизка (см. цв. вклейку, рис. VI, 17 ); височное кольцо бронзового сплава с пуансонным орнаментом (см. цв. вклейку, рис. XVI, 10 ). Последний предмет известен в позднедьяковских древностях, И.Г. Розенфельдт считала подобные находки перстнями (вероятно, в силу их плохой сохранности) и датировала X–XI вв., что, конечно, совершенно не соответствует контексту публикуемых объектов ( Розенфельдт , 1982. Рис. 20, 25, 26 . С. 95). Более определенной выглядит дата пряжки. Согласно Е.Р Михайловой, нижняя хронологическая граница украшения хоботковидных язычков поперечным нарезками относится к концу IV - началу V в. Верхняя граница, по мнению исследовательницы, « вряд ли выйдет за пределы первой трети VI в. » ( Михайлова , 2010. С. 137).
Фрагменты кремированных костных останков из погребений 1-2 светло-серого цвета, средний размер - 1-2 см. Температура сжигания тела была в пределах 750-1000°С, что характерно для обряда трупосожжения на открытом воздухе с применением дополнительных стимуляторов (жиров, смол?). Общий вид и состояние остатков говорят также о том, что сжигание происходило при полном или частичном отсутствии на костях мягких тканей.
Размер и сохранность костных остатков не позволяет давать четкие характеристики по половозрастным определениям, однако удалось установить, что останки принадлежат нескольким (как минимум двум) индивидам:
-
1) молодому (ребенок или подросток): определяющими стали фрагмент трубчатой кости с не приросшим эпифизом, фрагмент черепа с несросшимся швом, фрагмент не приросшего эпифиза нижней части плюсневой кости;
-
2) взрослому (старше 30 лет): определяющими стали фрагменты трубчатых костей конечностей, фрагменты черепа, фрагмент плюсневой кости, фрагмент позвонка.
Третье погребение (см. цв. вклейку, рис. XVII) располагалось примерно на 3 м восточнее второго, среди сосен, что значительно затрудняло расчистку. В отличие от первых двух, это было мощное скопление. Верхние кости в нем очень мелкие, рассеянные примерно на 1,5 м2, но в нижней части линзы находились сравнительно крупные фрагменты. Максимальная толщина линзы костей составляла 20 см. Среди костей найдены две железные сюльгамы с завернутыми концами, не выступающими за ширину поперечного сечения кольца (см. цв. вклейку, рис. XVIII, 1, 2 ); сюльгама бронзового сплава с завернутыми концами, не выступающими за ширину поперечного сечения кольца (см. цв. вклейку, рис. XVIII, 5 ); биметаллическя сюльгама – с бронзовой рамкой и железным язычком (см. цв. вклейку, рис. XVII, 3 ); гитаровидная железная пряжка (см. цв. вклейку, рис. XVIII, 4 ); височное кольцо с пуансонным орнаментом, аналогичное найденному в погребении 2 (см. цв. вклейку, рис. XVIII, 11 ); спиральные пронизи медного сплава2 (см. цв. вклейку, рис. XVIII, 6–8 ); оплавленные бусы красного глухого стекла (см. цв. вклейку, рис. XVIII, 9, 10 ); железный нож с прилипшими к нему фрагментами костей (см. цв. вклейку, рис. XVIII, 12 ).
Среди костей помимо вещей было расчищено несколько скоплений керамики. Это сильно измельченные сосуды, полностью не удалось собрать ни одного (см. цв. вклейку, рис. XVIII, 13–16 ). По венчикам выделяются не менее четырех, из них два подлощенные (или с лощением плохого качества) и два гладкостенные. В скоплениях встречались редкие фрагменты лощеной посуды с глянцевой, качественно залощенной поверхностью. Роль этой посуды в погребальном обряде не ясна. Пустые сосуды, не являвшиеся урнами (сосуды-приставки), часто встречаются в аналогичных, хотя и более поздних, кремациях в Щурово. Полностью исключить того, что эти сосуды могли изначально содержать кости, тоже нельзя, тем более потому, что они располагались на минимальной глубине и какое-то время после совершения погребения могли стоять открыто. Хотя эта керамика вполне соответствует керамике селища, наши полевые наблюдения говорят о том, что она вряд ли попала в скопление костей случайно: большая часть фрагментов была не только перекрыта костями, но и лежала под ними.
Фрагменты кремированных костных останков из скопления 3 в кв. 46 серого цвета, средним размером около 1,5–3 см. Значительная часть фрагментов кремированных костей была отнесена к категории неопределимых. Тем не менее, удалось идентифицировать останки как минимум двух индивидов:
-
1) мужчины 30–40 лет: определяющими стали фрагменты верхней челюсти, стенок длинных трубчатых костей, затылочной, лобной, височной костей, фрагмент верхнего края левой глазницы, фрагменты позвонков, фаланги пальцев;
-
2) женщины 20–25 лет: определяющими стали фрагменты лобной, височной, теменной костей, фрагмент нижней челюсти, фрагменты грудных и шейных позвонков, фрагмент верхнего края левой глазницы.
Также значительную долю костных остатков составляют кости животных. Среди костей нам удалось выделить еще одну находку – мельчайший осколок кости животного с циркульным орнаментом.
Подводя итог первым результатам раскопок, можно сделать вывод, что нами найден могильник, синхронный поселению. Кости кремаций ссыпались на дневную поверхность (погребения 1–2), возможно – в небольшую ямку (погребение 3). Предположительно, покойные, по крайне мере в погребениях 1–2, к моменту сожжения были частично скелетированы и, вероятно, сожжены вместе.
Очевидно, что раскопки этого интереснейшего объекта необходимо продолжать, но уже сейчас, даже на основании первых материалов, можно сделать некоторые выводы.
-
1. Найденный нами могильник расположен на территории, на которой погребальные памятники не были известны. Эта территория занимает довольно протяженный отрезок русла Оки между мощинскими и рязано-окскими памятниками, и то, что нами обнаружено, абсолютно не похоже на соседние культурные традиции – это нечто новое.
-
2. Было бы также логичным искать аналогии среди древностей позднедьяковского типа, но то, что найдено, не имеет сходства ни по инвентарю, ни по обряду и с позднедьяковскими погребальными памятниками, кроме, может быть, Ратьковского могильника.
-
3. Вместе с тем, скелетирование покойных перед кремацией и сожжение нескольких покойников сразу известны как раз в дьяковской культурной среде – именно таким образом реконструирован погребальный обряд по материалам селища Дунино 4 и Троицкого городища ( Кренке , 2011. С. 210–216). Является ли это обстоятельство свидетельством некой преемственности с дьяковской эпохой, непонятно.
-
4. Есть отличия в погребальном обряде Соколовой Пустыни от более поздних и недавно открытых памятников, типа Шурово и Лужки «Е», но мы не можем сказать, насколько они принципиальны. Публикуемый могильник (1) расположен не на краю первой террасы, как прочие, а на краю второй; групповые кремации и скелетирование покойников перед кремацией пока не выявлены в Щурово и Лужках. Разумеется, отличен и инвентарь, но все перечисленные отличия могут быть как проявлением принципиальной разницы, так и результатом эволюции погребального обряда у одного населения.
-
5. В то же время, нельзя не обратить внимания на следующее обстоятельство: открытие могильника Соколова Пустынь заполняет «белое» пятно между мощинскими и рязано-окскими памятниками точно так же, как для более позднего времени Щурово и Лужки заполняют промежуток между курганами с оградками Верхней Оки и рязанскими раннеславянскими памятниками. С учетом резкого отличия всех известных в настоящее время окских грунтовых кре-
- маций (Щурово, Лужки, Серпухов, Старая Рязань и даже могильник 2 самой Соколовой Пустыни) от соседних погребальных традиций вопрос о возможной преемственности Соколовой Пустыни, с одной стороны, и Щурово – Лужков, с другой, вполне правомерен.
Список литературы Соколова пустынь - новый погребальный памятник позднедьяковского времени
- Ахмедов И.Р., 1999. Рязано-окские «крестовидные» фибулы//Исследования П.Д. Степанова и этнокультурные процессы древности и современности: Мат. междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию П.Д. Степанова/Отв. ред. Н.М. Арсентьев. Саранск: Типография «Красный Октябрь». (Степановские научные чтения.) С. 58-61.
- Башенькин А.Н., 1995. Культурно-исторические процессы в Молого-Шекснинском междуречье в конце I тыс. до н. э. -I тыс. н. э.//Проблемы истории Северо-запада Руси: Сб. ст./Ред. И.В. Дубов, И.Я. Фроянов. СПб.: Изд-во СПбГУ. (Славяно-русские древности. Вып. 3.) С. 3-29.
- Башенькин А.Н., 1996. «Домик мёртвых» Куреваниха-ХХ на р. Мологе//Древности Русского Севера: Сб. ст.: [Мат. конф. «Археология Русского Севера»]. Вып. 1. Вологда: Ардвисура: НПЦ «Клио». С. 141-150.
- Башенькин А.Н., Васенина М.Г., 2004. Усть-Бельский археологический комплекс на р. Кобоже: 20 лет исследований//Чагодощенская земля: культура, история, люди: Мат. краевед. конф. (п. Чагода, Вологодская обл., 9-10 янв. 2004 г.). Вологда: Изд-во ВОНМЦК. С. 19-54.
- Вишневский В.И., Кирьянова Н.А., Козловская М.В., 2004. О погребальном обряде финно-угорского раннесредневекового могильника на Ратьковском городище в верховьях р. Дубна//OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии: Сб. ст. Вып. 3/Ред. М.Б. Медникова. М. С. 153-161.
- Вишневский В.И., Кирьянова Н.А., Добровольская М.В., 2007. Ратьковский раннесредневековый финно-угорский могильник: хронология, культура, обряд//РА. № 2. С. 89-107.
- Краснов Ю.А., Краснов Н.А., 1978. Погребальное сооружение на городище «дьякова типа»//Вопросы древней и средневековой археологии Восточной Европы: Сб. ст./Отв. ред. В.И. Козенкова. М.: Наука. С. 140-153.
- Кренке Н.А., 2011. Дьяково городище: Культура населения бассейна Москвы-реки в I тыс. до н. э. -I тыс. н. э. М.: ИА РАН. 546 с.
- Михайлова Е.Р., 2010. Поясная гарнитура и поясные наборы культуры длинных курганов//История и археология Пскова и Псковской земли: Мат. 55-го заседания семинара им. акад. В.В. Седова (Псков, 13-15 апр. 2009 г.). Псков. С. 136-145.
- Розенфельдт И.Г., 1982. Древности Западной части Волго-Окского междуречья в VI-IX вв. М.: Наука. 179 с.
- Смирнов К.А., 1990. Погребальный обряд дьяковской культуры//СА. № 2. С. 51-62.
- Третьяков П.Н., 1941. К истории племен верхнего Поволжья в I тыс. н. э. М.; Л.: Изд-во АН СССР. (МИА. № 5.) 150 с.
- Фурасьев А.Г., 2001. Грунтовый могильник Фролы 2 -новый погребальный памятник середины 1 тысячелетия н. э. в Подвинье//Тверской археологический сборник. Вып. 4.: Мат. II Тверской археолог. конф. и 5-го заседания науч. семинара «Тверская земля и сопредельные территории в древности» (23-27 марта 1999 г. и 24-28 марта 1998 г.)/Отв. ред. вып. И.Н. Черных. Тверь: Тверская обл. типогр. Т. 2. С. 94-102.