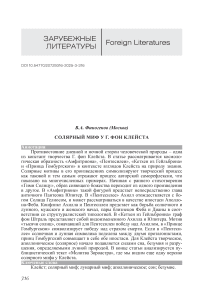Солярный миф у Г. фон Клейста
Автор: В.А. Финогенов
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
Противостояние дневной и ночной сторон человеческой природы – одна из констант творчества Г. фон Клейста. В статье рассматривается космологическая образность «Амфитриона», «Пентесилеи», «Кетхен из Гейльброна» и «Принца Гомбургского» в контексте взглядов Клейста на природу знания. Солярные мотивы в его произведениях символизируют творческий процесс как таковой и тем самым отражают процесс авторской саморефлексии, что показано на многочисленных примерах. Начиная с раннего стихотворения «Гимн Солнцу», образ сияющего божества переходит из одного произведения в другое. В «Амфитрионе» такой фигурой предстает непосредственно глава античного Пантеона Юпитер. В «Пентесилее» Ахилл отождествляется с богом Солнца Гелиосом, и может рассматриваться в качестве ипостаси Аполлона-Феба. Конфликт Ахилла и Пентесилеи предстает как борьба солнечного и лунного, мужского и женского начал, пары близнецов Феба и Дианы в соответствии со структуралистской типологией. В «Кетхен из Гейльбронна» граф фом Штраль представляет собой видоизмененного Ахилла и Юпитера. Мотив «тысячи солнц», означавший для Пентесилеи победу над Ахиллом, в «Принце Гомбургском» символизирует победу над страхом смерти. Если в «Пентесилее» солнечная и лунная символика поделена между двумя протагонистами, принц Гомбургский совмещает в себе обе ипостаси. Для Клейста творческое, аполлоническое (солярное) начало подавляется силами сна, безумия и разрушения, определяемыми лунной природой. В конце статьи анализируется публицистический текст «Молитва Зороастра», где мы видим еще одну версию солярного мифа у Клейста.
Клейст, солярный миф, лунарный миф, аполлоническое, сон, безумие
Короткий адрес: https://sciup.org/149149401
IDR: 149149401 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-316
Текст научной статьи Солярный миф у Г. фон Клейста
ЗАРУБЕЖНЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ
Foreign Literatures
В.А. Финогенов (Москва)
СОЛЯРНЫЙ МИФ У Г. ФОН КЛЕЙСТА ннотация
Противостояние дневной и ночной сторон человеческой природы - одна из констант творчества Г. фон Клейста. В статье рассматривается космологическая образность «Амфитриона», «Пентесилеи», «Кетхен из Гейльброна» и «Принца Гомбургского» в контексте взглядов Клейста на природу знания. Солярные мотивы в его произведениях символизируют творческий процесс как таковой и тем самым отражают процесс авторской саморефлексии, что показано на многочисленных примерах. Начиная с раннего стихотворения «Гимн Солнцу», образ сияющего божества переходит из одного произведения в другое. В «Амфитрионе» такой фигурой предстает непосредственно глава античного Пантеона Юпитер. В «Пентесилее» Ахилл отождествляется с богом Солнца Гелиосом, и может рассматриваться в качестве ипостаси Аполлона-Феба. Конфликт Ахилла и Пентесилеи предстает как борьба солнечного и лунного, мужского и женского начал, пары близнецов Феба и Дианы в соответствии со структуралистской типологией. В «Кетхен из Гейльбронна» граф фом Штраль представляет собой видоизмененного Ахилла и Юпитера. Мотив «тысячи солнц», означавший для Пентесилеи победу над Ахиллом, в «Принце Гомбургском» символизирует победу над страхом смерти. Если в «Пентеси-лее» солнечная и лунная символика поделена между двумя протагонистами, принц Гомбургский совмещает в себе обе ипостаси. Для Клейста творческое, аполлоническое (солярное) начало подавляется силами сна, безумия и разрушения, определяемыми лунной природой. В конце статьи анализируется публицистический текст «Молитва Зороастра», где мы видим еще одну версию солярного мифа у Клейста.
ючевые слова
Клейст; солярный миф; лунарный миф; аполлоническое; сон; безумие.
V.A. Finogenov (Moscow)
SOLAR MYTH IN THE WORK OF HEINRICH VON KLEIST bstract
The confrontation of the day and night sides of human nature is one of the constants of H. von Kleist’s work. The article examines the cosmological imagery of “Amphitryon”, “Penthesilea”, “Kätchen of Heilbronn” and “Prince of Homburg” in the context of Kleist’s views on the nature of knowledge. Solar motifs in his works symbolize the creative process as such and thereby represent the process of the author’s self-reflection, as shown in numerous examples. Beginning with the early poem “Hymn to the Sun”, the image of a shining deity moves from one work to another. In “Amphitryon” the head of the ancient Pantheon, Jupiter, appears as such a figure. In “Penthesilea”, Achilles is identified with the sun god Helios, and can be considered as a hypostasis of Apollo-Phoebus. The conflict between Achilles and Penthesilea appears as a struggle between the solar and lunar, male and female principles, the pair of twins Phoebus and Diana in accordance with structuralism typology. In “Kätchen of Heilbronn” Count vom Strahl represents a modified Achilles and Jupiter. The motif of a “thousand suns”, which for Penthesilea meant victory over Achilles, in “The Prince of Homburg” symbolizes victory over the fear of death. In “Penthesilea” the solar and lunar symbolics is divided between two protagonists, however, the Prince of Homburg combines both hypostases. For Kleist, the creative, Apollonian (solar) principle is suppressed by the forces of sleep, madness and destruction determined by the lunar nature. At the end of the article, the journalistic text “The Prayer of Zoroaster” is analyzed, where we see another version of the solar myth by Kleist.
ey words
Kleist; solar myth; lunar myth; Apollonian; dream; madness.
«Но я ошибался лишь до тех пор, пока надо мной царила тьма» [Kleist 1884, 87] – пишет Клейст в одном из писем своей невесте Вильгельмине фон Ценге, рассказывая об опыте наблюдения за восходом солнца в горах Гарца. Сквозной для творчества Клейста мотив заблуждения неразрывно связан с образом темноты и ночи. Другое письмо к Вильгельмине содержит фрагмент, обычно цитирующийся в контексте так называемого «кантовского кризиса» Клейста 1801 г.:
В отличие от «Амфитриона», действие «Пентесилеи» («Penthesilea», 1807) происходит исключительно в светлое время суток – сцена залита светом, отраженным от доспехов Ахилла; по выражению Ф. Коха «весь свет падает только на того, на кого направлен разум Пентесилеи» [Koch 1958, 57]. «Пенте-силея» служит примером структуры, о которой Е.М. Мелетинский пишет при анализе теории К. Леви-Стросса: «мифология половых различий может быть реализована в образах Солнца и Луны в качестве разнополых существ, неба и земли, активности и пассивности, добра и зла» [Мелетинский 1976, 79–80]. Поскольку в основе конфликта этой пьесы лежит противостояние обоих героев, эта драма легко сводится к ряду бинарных оппозиций – разума и чувства, мужского и женского, природы и цивилизации, Солнца и Луны. В самом начале трагедии эллинский герой, спасающийся от преследующей его царицы амазонок, описывается следующим образом: «Теперь на горизонте видна вся колесница! С таким великолепием восходит солнце в яркий весенний день!» [Kleist 1808, 18]. Таким же видят его и амазонки: «Смотри, смотри, как сквозь проблеск грозовой тучи, / Солнечный свет попадает прямо на голову Пели-да!» [Kleist 1808, 53]. М. ван Марвик рассматривает аполлонический образ Ахилла, больше напоминающего статую, чем живого человека, в контексте «классической героики» [Marwyck 2010, 219]. Ахилл в качестве прекрасного, совершенного (и завершенного) произведения искусства противостоит Пенте-силее, подверженной постоянным изменениям. Космологическая перспектива позволяет рассматривать чередующиеся между собой победы грека и амазонки как своеобразную метафору смены дня и ночи, где ни одна, ни другая сторона принципиально не способна одержать победу. Пентесилея уподобляет своего ненавистного возлюбленного греческому богу Солнца Гелиосу, которого она намерена привлечь к себе, ухватив его за «золотисто-пламенные волосы» [Kleist 1808, 74], а в другой сцене говорит: «Я приручу юного, дерзкого бога войны, / Подруги, десять тысяч солнц, / Сплавленных в огненный шар, мне не представляются столь же блестящими, / Как победа, моя победа над ним» [Kleist 1808, 34]. При том что и для греков, и амазонок восприятие Пелида как ипостаси Солнца остается сугубо метафорическим, Пентесилея по словам С. Клуве «деметафоризирует Ахилла» [Kluwe 2016, 56]. Стремление Пенте-силеи поглотить солнце в его лице роднит ее с хтоническими чудовищами, такими как германский волк Фенрир и египетский змей Апоп – и позволяет воспринимать поедание ею Ахилла как тотемический акт теофагии. С другой стороны, Пентесилея повторяет судьбу Икара, символизирующего человеческую тягу к знанию: «Если б я могла с широко простертыми крыльями рассечь воздух» и «Слишком высоко, я знаю, слишком высоко – / Он парит в бесконечно далеких пламенных кругах / Вокруг моей тоскующей груди» [Kleist 1808, 71]. Во многих мифологиях образ птицы связан с солнцем, поэтому царица в своем стремлении взлететь ввысь пытается слиться с дарующим жизнь началом. Как пишет К. Паль, «подражание солнцу отражает ее миметический подход к Ахиллу, которого представляли как аполлонического бога солнца» [Pahl 2019, 151].
Ахилл со своей стороны осознает ночную сущность своей противницы и в пятнадцатой сцене драмы спрашивает Пентесилею: «Я отвлекся. Прости. Я просто подумал: / Ты спустилась ради меня с Луны?» [Kleist 1808, 114] Связь амазонского воинства и ночного светила постоянно подчеркивается в тексте драмы: в бой они идут под знаменем «золотого полумесяца» [Kleist 1808, 125]; пленных греков они собираются отвести в «храм Артемиды» и «темные дубовые рощи» [Kleist 1808, 50]. В тот же «храм Дианы» [Kleist 1808, 127] Пенте-силея стремится забрать с собой Ахилла, которого она, находясь в помрачении разума, считает своим пленным, хотя дело обстоит противоположным образом. При этом она пытается присвоить себе солярные атрибуты, в чем Ахилл ей подыгрывает: «Пентесилея. Говори! Боишься ли ты ту, кто положил тебя в прах? / Ахилл (у ее ног). Как цветы солнечного света. Пентесилея. Хорошо сказано! / Так смотри на меня, как на солнце» [Kleist 1808, 100]. Инверсия солнечного и лунного начал напоминает подмену Амфитриона Юпитером, только теперь противники равны друг другу по силе. Драма, начинающаяся с изображения восходящего солнца в лице Ахилла, заканчивается его ритуальным поглощением и одновременно саморазрушением его антипода в образе Пентесилеи. Воплощая собой солнечного бога Гелиоса, Ахилл отождествляется с Аполлоном (Фебом), в то время как его сестра-близнец Артемида (Диана) соотносится с луной. Поскольку они – две грани единого целого, их последовательная гибель означает разрыв мифологического цикла борьбы света и тьмы. Но «крах соперничающего с Солнцем гибридного “я”» [Böhme 2015, 39] Пентесилеи еще не означает окончательного погружения мира в состояние нового хаоса. Оба начала объединяются в единое целое и уносятся за пределы материального бытия, где, по словам умирающей Пентесилеи, «теперь все хорошо» [Kleist 1808, 176]. Как пишет Р. Барт в своей книге «О Расине», «рождение Солнца чаще всего совпадает с рождением самой трагедии (которая длится, как известно, один день), поэтому и Солнце, и трагедия, как правило, становятся смертоносными одновременно» [Барт 1989, 164]. В «Пентесилее» Клейст обыгрывает модель классицистической драмы и правило трех единств ради того, чтобы создать своего рода трагедию о трагедии, где солнечный миф отсылает к непосредственным истокам зарождения театрального искусства.
Героиню «Кетхен из Гейльбронна» («Das Käthchen von Heilbronn», 1808), так же как и Пентесилею, ослепляет свет ее возлюбленного. Как отмечает Дж. Пранди, «при помощи образов света и тьмы Клейст отделяет Кетхен и Пен-тесилею от Штраля и Ахилла соответственно» [Prandi 1983, 126]. Семантика имени графа Фридриха Веттера фом Штраль, у которого вторая часть личного имени означает непогоду, а родовое имя – луч, прямо указывает на его связь с верховным божеством античного Пантеона, и П. Шольце подробно рассматривает отсылки к образу Юпитера [Scholze 2015, 104–107]. Кетхен одновременно напоминает Алкмену и Пентесилею, но в этой пьесе, как и в «Принце Гомбург-ском», сюжетообразующим становится мотив сомнамбулизма и магнетизма. Именно в тот момент, когда девушка разговаривает во сне, графу удается вытянуть из нее признание о сверхъестественной связи между ними: «С тобою, мой господин, был херувим, / С белыми, как снег, крыльями на обоих плечах. / И свет – о Господи! как сверкало! как сияло! – / Он привел тебя ко мне за руку» [Kleist 1810, 154]. Клейст помещает источник света в более привычную сферу божественного, и этот религиозно-патетический оборот сюжета не дает героям драмы слиться с архетипами, как это было в «Пентесилее». Кетхен предстает скорее медиумом между потусторонним и реальным миром, тогда как граф, в отличие от Ахилла, отражает свет херувима, а не отождествлен непосредственно с солнечным началом. «Испытание огнем» героиня проходит как в прямом смысле, когда она проникает в горящий замок, так и в переносном, поскольку она выдерживает присутствие ангела. Помимо этого, над судьбами обоих ге- роев тяготеет фигура императора, биологического отца Кетхен, зачавшего ее в случайной связи под звездой Юпитера, что отсылает к сюжету «Амфитриона». Сюжет двойного супружества меняется на ситуацию двойного отцовства, а учитывая, что и сам Штраль соотносится с богом-громовержцем, то драматическая реальность снова расслаивается на несколько уровней.
Оппозиция света и тьмы в «Принце Гомбургском» («Prinz Friedrich von Homburg», 1811) по сравнению с остальными пьесами Клейста кристаллизуется вокруг центральной фигуры драмы. В первой же сцене пьесы принц предстает в состоянии полусна-полуяви («halb wachend, halb schlafend») [Kleist 1822, 1]. Одновременная принадлежность Гомбурга дневной и ночной стихии отражает невозможность совместить в одном лице роли воина и возлюбленного, как это было в случае Пентесилеи. Эпизод в ночном саду, где у принца, грезящего о грядущей победе в сражении, курфюрст Бранденбурга забирает сплетенный им лавровый венок, становится триггером для усугубления его и без того сильного душевного разлада. Роль резонера, комментирующего душевное состояние принца, играет граф Генрих Гогенцоллерн: «Могу поспорить, он уже мысленно видит звездочетов, / Вьющих для него венок победы из солнц» [Kleist 1822, 4]. Как и в «Пентесилее», здесь прослеживается параллель победа – солнце – венок, причем последний символ в обеих пьесах материализован: амазонки награждают пленных мужчин венками из роз, и невозможность для Пентесилеи победить Ахилла побуждает ее разрубить эти венки; в то же время как курфюрст символически лишает принца права на победу еще до того, как он ее одержал. Принц ассоциирует курфюрста с солнечным началом, что мешает ему поверить в реальность своего осуждения на казнь: «Нет, друг, он собирает эту ночь из облаков / Лишь вокруг моей головы, чтобы, как солнце, / Ярко сиять сквозь ее дымку!» [Kleist 1822, 53]. Курфюрст, будучи правителем и непосредственным начальником принца, символизирует идею патриархальной власти и мужской природы, в чем он сближается с Ахиллом. По словам К. Рокс, он предстает «королем-солнцем по милости Божией, а принц – бенефициаром суверенного акта благодати» [Rocks 2020, 466].
Лунное начало для принца воплощено в лице родственницы курфюрста, принцессы Натальи, но, как и в случае Кетхен, сновидение для него – единственный доступный способ связать реальность и мир воображения. Символом этой связи становится перчатка принцессы, сорванная им в сомнамбулическом состоянии и заменившая отнятый венок. Впоследствии граф назовет ее «воплотившимся кусочком сна» [Kleist 1822, 94]. Не понимая, где он находится, принц, которого Генрих считает «абсолютно безумным», говорит про себя: «Пусть меня поглотит ночь! Не осознавая себя, / В лунном свете я снова преображаюсь!» [Kleist 1822, 8]. Когда эскапистское погружение в мир ирреального и потустороннего оборачивается для Гомбурга смертным приговором, образы гибели и тления парадоксальным образом соотносятся с символикой солнца, а не тьмы: «Правда, и там, говорят, светит солнце, / Над более пестрыми полями, чем здесь: я в это верю; / Только жаль, что гниет глаз, / Которому положено видеть эту славу» [Kleist 1822, 75]. Сияние света сквозь разлагающийся орган зрения – доведенная до предела метафора «зеленых очков». Но этот нигилистический сарказм – далеко не финальный аккорд. Уже в самом конце пьесы, принц, считающий, что он стоит непосредственно на пороге смерти, произносит следующие слова: «Теперь, бессмертие, ты целиком мое! / Ты сияешь сквозь повязку моих глаз, / С великолепием тысячекратного солнца! / На обоих плечах растут крылья, / Мой дух колеблется в безмолвных эфирных про- странствах» [Kleist 1822, 102]. Одержанная победа над инстинктивной тягой к жизни, столь ярко показанной в финале третьего действия, загорается светом, проникающим даже сквозь тьму небытия. Крылья, на которых герой в своем воображении возносится в поднебесный мир, снова роднит Гобмурга с Кет-хен и Пентесилеей. Аналогичные образы обнаруживаются в письме Клейста Адольфине фон Вердек от 28 июля 1801 г.: «[сердце] должно свободно двигать крыльями, оно должно безудержно летать вокруг своего солнца, даже если этот полет опасен, как полет комара вокруг лампы» [Kleist 1935, 12].
Образ тысячи солнц, используемый в «Пентесилее» и «Принце Гомбург-ском», позволяет провести параллель между этим символом, накладывающимся на древнюю гомеровскую метафору крылатого слова, и идеей творчества как такового. Искусство как таковое представляет собой то самое цветное стекло, через которое читатель вглядывается в художественный мир произведения. Принадлежность героев Клейста миру сна и ночных иллюзий удваивает перспективу, и именно этот новаторский прием становится одной из отличительных черт клейстовской драматургии. Пара близнецов-демиургов, Солнца и Луны, Феба и Дианы – разные формы антитезы сознательного акта творящего начала и стихии бессознательного. Во многом идеи Клейста предваряют как теорию аполлонического и дионисийского начал Ф. Ницше, известного поклонника творчества Клейста, так и психоаналитические концепции З. Фрейда и его последователей. Тем самым, творчество Клейста оказало несомненное влияние на метаморфозы солярного мифа в немецкой культуре XIX–XX в., что может стать темой для отдельного исследования.
Опубликованная писателем в октябре 1810 г. заметка «Молитва Зороастра» в им же издаваемой газете «Berliner Abendblätter» служит прекрасной иллюстрацией к общей картине. Главный символ зороастризма – крылатое солнце – для Клейста означает парящий творческий дух, что соотносится с образностью его юношеского стихотворения «Гимн к Солнцу» («Hymn an die Sonne», 1799). Обращающийся к Богу Зороастр говорит об одном из слуг творца, «который не замечает глупостей и ошибок своего рода»: «Ты даешь ему колчан речи, чтобы он, бесстрашный и любящий, мог прийти к ним и разбудить их стрелами, то острее, то мягче, от странной сонливости, в которой они пребывают» [Kleist 1862, 100]. Здесь легко узнаются образы из шестой книги пророка Исайи, где серафим вкладывает пламенеющий уголь в уста пророка – только метафора речи у Клейста воплощается в стрелах солнечного бога Феба. Примечательно здесь и типично клейстовское определение «Schlafsucht», стремление ко сну, которое состоит в отчетливой оппозиции к гораздо более знакомому понятию «Sehnsucht», томлению духа, столь значимому как для творчества романтиков, так и веймарских классиков. Приверженность героев Клейста ночной природе бытия и одновременно страстное желание вознестись на крыльях к солнцу, становится ключевой проблематикой произведений Клейста, где картины помрачения и безумия контрастируют со стремлением к обретению вечной истины. Божественные стрелы пробуждают от слепоты и дремоты ослепительным светом подлинного знания, которое должен понести по-настоящему избранный: «И научи меня также сплести венец, которым я смогу по-своему увенчать того, кто тебе угоден» [Kleist 1862, 101]. Тем самым, клейстовский Зороастр представляет собой завуалированную аллегорию поэта, который, хотя и не способен преодолеть силу тьмы и разрушения, предвозвещает появление нового типа разума, близкого к ницшеанскому сверхчеловеку, – разума, познающего мир своими глазами, а не через призму «зеленых очков».