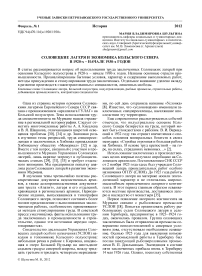Соловецкие лагеря и экономика Кольского Севера в 1920-х - начале 1930-х годов
Автор: Шульгина Мария Владимировна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (122), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос об использовании труда заключенных Соловецких лагерей при освоении Кольского полуострова в 1920-х - начале 1930-х годов. Названы основные отрасли промышленности. Проанализированы бытовые условия, характер и содержание выполняемых работ, методы принуждения и стимулирования труда заключенных. Отдельное внимание уделено вкладу в развитие производств «законтрактованных» специалистов, лишенных свободы.
Соловецкие лагеря, кольский полуостров, индустриализация, рыбные промыслы, строительные работы, добывающая промышленность, контрактация специалистов
Короткий адрес: https://sciup.org/14750071
IDR: 14750071 | УДК: 94(470.116)61920/19309
Текст научной статьи Соловецкие лагеря и экономика Кольского Севера в 1920-х - начале 1930-х годов
Одна из страниц истории освоения Соловецкими лагерями Европейского Севера СССР связана с проникновением «архипелага ГУЛАГ» на Кольский полуостров. Тема использования труда спецконтингента на Мурмане нашла отражение в региональной историографии. Следует отметить многочисленные работы А. А. Киселева и В. Я. Шашкова, отличающиеся широтой освещения проблемы [30], [34] и др. Значимая роль в изучении темы репрессий, труда спецпересе-ленцев и заключенных в Хибинах принадлежит Хибинскому обществу «Мемориал» [32] и др. Вместе с тем вопрос, связанный с участием в промышленности Мурмана Управления Соловецких лагерей, лишь вкратце затронут в публицистических статьях [29], [31], [33] и требует отдельного внимания. Мы предприняли попытку анализа роли Соловецких лагерей в развитии экономики Мурмана.
В изучении темы чрезвычайно полезны рассекреченные документы ведомственных архивов, а также делопроизводственная документация треста «Апатит», лагеря и его отделений, хранящаяся в региональных архивах. Периодические издания, выпускавшиеся в типографии Соловецкого лагеря, позволяют составить более полное представление о выполнявшихся заключенными работах, особенностях применявшихся методов стимулирования труда. В советской прессе умалчивались факты использования труда заключенных в промышленности и строительстве, однако эти источники нередко «проговариваются».
Свидетельство дислокации Управления Соловецких лагерей особого назначения (УСЛОН) находим в топонимике Кольского полуострова: небольшая речка в районе г. Кировска, впадающая в озеро Большой Вудъявр на шестьдесят седьмом градусе северной широты, между тридцать третьим и тридцать четвертым меридиана ми, по сей день сохранила название «Услонка» [8]. Известно, что «услоновцами» именовали заключенных спецпереселенцы, населявшие впоследствии эту территорию.
Еще современники рассматриваемых событий отмечали, что индустриальное освоение Кольского Севера базируется на труде, который может быть отождествлен с рабским. В. И. Вернадский в 1932 году так отразит впечатления о способах освоения минеральных богатств в своих мемуарах: «Стройка огромная и большая работа на Хибинах. В основе труд крепостной – на горе, на силах, страданиях невинных…» [2].
Использование заключенных в производственных целях впервые получило апробацию на Соловецком архипелаге. Постановлением СНК СССР от 2 ноября 1923 года здесь был учрежден Соловецкий лагерь принудительных работ особого назначения ОГПУ (СЛОН). До 1925 года работы Соловецкого лагеря на материке носили эпизодический характер и не отличались широкомасштабным привлечением лагерного контингента. В этот период главным образом осваиваются местные производства, доставшиеся лагерю в наследство от монастыря [35].
Первое появление лагерного контингента на Мурмане связано с рыболовным промыслом УСЛОН [18]. Попытки организовать работу рыболовецких судов Соловецкого лагеря в селении Териберка, предпринятые в 1923–1924 годах, окончились провалом. Группа соловецких заключенных была отправлена на промыслы совершенно неподготовленной к северным условиям лова, отсутствовало необходимое оснащение. Осенью 1925 года для выяснения возможностей промысловой работы в Териберку был послан заведующий рыбозвероловными промыслами В. П. Доильницын. Экспедиция в составе пяти заключенных прибыла вновь в Териберку 14 мая 1926 года. Однако, поскольку собственная промысловая деятельность лагеря оказалась малоэффективна, командированные экспедиции в большинстве своем занимались скупкой рыбы у местных жителей [18].
Вслед за эпизодическими выездами с архипелага на Большую землю в 1925 году началось более интенсивное распространение «Власти соловецкой» на Европейском Севере. Во-первых, получила развитие собственная хозяйственная деятельность УСЛОН на материке – организуется работа на взятых в аренду лесозаготовительных дистанциях в КАССР. Во-вторых, тогда же появляется мысль о возможности использования заключенных на «контрагентских» работах (по контракту с советскими предприятиями) с целью извлечения прибыли из их деятельности.
Малоосвоенный Кольский полуостров нуждался в рабочей силе и в специалистах. 25 мая 1923 года Советом труда и обороны было утверждено положение о колонизации КарелоМурманского края. Лесозаготовки, лесосплав и другие работы проводились главным образом за счет временных рабочих, прибывающих на заработки. Вместе с тем с 1925 года заключенные Соловецких лагерей уже использовались на Кольском полуострове во время сезонных работ; их силами велась постройка подъездных путей, мастерских, депо, лесопильных заводов [10]. К 1926 году уже появились проекты более активного вовлечения лагерного контингента в освоение края: «Задача расширения… колонизационного фонда, культура болот и экономическая помощь переселенческим хозяйствам стоят в настоящее время на очереди дня» [10].
Самое большое значение приобретает разработка апатитового месторождения в Хибинах. Промышленным работам предшествовали научные изыскания. В 1920 году к изучению хибинских недр приступила экспедиция под руководством академика А. Е. Ферсмана. Ферсман объективно оценивал потенциал разработки апатитового месторождения. В 1923 году в свой доклад о результатах экспедиций в Хибинские и Ловозерские тундры он вносит оговорку: «…та-кой материал, при большей чистоте и совместном нахождении фосфорной кислоты и разнообразных силикатов щелочей, явился бы практически очень важным, если бы количественная и хозяйственная сторона его эксплуатации была обеспечена. Однако... трудная доступность ущелий этой части Хибинского массива пока не обнадеживает нас в возможности практического значения этих месторождений…» [26]. Спустя шесть лет «хозяйственная сторона эксплуатации» апатитов будет обеспечена за счет труда заключенных УСЛОН и спецпереселенцев.
Предварительная оценка запасов апатитовой породы в месторождениях Кукисвумчорра, Рас-вумчорра, Юкспора и Пинуайчорра обнаружила, что эти месторождения Хибинских гор содер- жат «исключительные запасы фосфорных руд» [28; 3]. Представлялась заманчивой возможность заменить апатитом привозные африканские фосфориты, отправлять добываемое сырье на экспорт. Это сулило ежегодное сохранение нескольких миллионов рублей валюты.
Развитие апатитового месторождения было сопряжено с целым рядом крупных технических задач: прокладка шоссе и железной дороги к месторождениям протяженностью 25 км, строительство на месте добычи жилых поселков, организация перемолочного и обогатительного завода в Хибинах, устройство гидроустановки на реке Белой, осушение болот в районе реки Белой и озера Большой Вудъявр и др. С 1928 года идет активный поиск путей решения этих проблем: «…нужно выявить те скрытые возможности, отсутствие которых не давало развития району…» [3]. Такие «скрытые возможности» были найдены в виде потенциала пенитенциарной системы.
Начало нового витка государственной политики в отношении использования труда заключенных связано с 1929 годом, когда Политбюро санкционировало организацию новых ИТЛ под эгидой ОГПУ «по типу Соловецкого». Это новой системы ИТЛ было продиктовано в первую очередь решением масштабных запросов экономического развития страны: «…опыт Соловков показывает, как много можно сделать в этом направлении (дороги, осушение болот, добыча рыбы заключенными...)» [25].
С возникновением новых задач перед Соловецкими лагерями меняется их название (Соловецкие и Карело-Мурманские исправительнотрудовые лагеря1), а также структура. Управление Соловецкими лагерями было переведено с островов в г. Кемь (КАССР). Для выполнения трудоемких промышленных задач на Мурмане было организовано два отделения Соловецких лагерей – Третье и Шестое. Третье отделение с центром на станции Кандалакша, насчитывающее 9 700 заключенных, осуществляло лесозаготовительные работы вдоль Мурманской железной дороги (от станции Энг-Озеро до Мурманска включительно), земляные работы в Мурманске, рыбные промыслы в Кандалакшской губе и на океанском берегу Кольского полуострова. Задачи сооружения железнодорожной ветки к апатитовым разработкам и дорожного строительства, освоения рудника, а также выполнение других ответственных заданий правительства были возложены на Шестое (Апатитское) отделение с центром в разъезде Белый. В апреле 1930 года оно включало 2 340 заключенных [21].
Экспорт апатитов планировалось вести через Мурманский порт, поэтому прежде всего заключенным, командированным с Соловков, необходимо было проложить через болота и откосы гужевую дорогу. В 1929 году на ее строитель- стве было задействовано около 600 человек. Невзирая на сложный рельеф местности, работы велись «усиленным темпом, преодолевая серьезные затруднения, заключающиеся в недостатке рабочей силы, позднем оттаивании болот в горах, обилии комаров и т. п.» [28; 7]. Дорога была официально открыта 25 сентября 1929 года.
13 ноября 1929 года был создан трест «Апатит» – государственная организация, призванная добывать и перерабатывать горную породу. Постановлением Совета труда и обороны и СНК СССР от 26 декабря 1929 года трест был включен в число 29 сверхударных строительств как «имеющий важное государственное значение» [5; 44]. Управляющим трестом был назначен Василий Иванович Кондриков. Предстояло обеспечить трест людскими ресурсами.
Перспективы привлечения заключенных Соловецких лагерей к апатитовым разработкам обсуждались на партийном собрании Соловецкой ячейки ВКП(б) 9 декабря 1929 года: «…нельзя… не отметить об наших апатитах, которые у нас раскрыли в Хибинском районе, и по наведенным исследованиям эта добыча будет составлять примерно 1 млн т апатита в год, этим вопросом занялся теперь УСЛОН…» [20]. Вслед за этим 1 января 1930 года С. М. Киров провел совещание в поселке Кукисвумчорр по перспективам освоения апатитонефелиновых месторождений. Не случайно вместе с Кировым на совещание прибыл начальник УСЛОН А. П. Ногтев: перспективы строительных работ и разработки рудника всецело ассоциировались с трудом заключенных [6].
Едва была проложена гужевая дорога, как Управление СЛОН заключило договор с Правлением Мурманской железной дороги на прокладку ветки «Апатиты». На этом задании было задействовано до 2 500 заключенных [7; 65]. Тяжелейшие работы велись в экстремальных условиях полярной мерзлоты. Этот факт не скрывают даже прошедшие цензуру периодические издания УСЛОН: «Это был действительно без преувеличения титанический труд. Каменные породы необычной твердости, подобные цементу, и мерзлота грунта заставляли даже летом обкладывать отдельные места кострами и отвоевывать, давая оттаивать грунту. Огромные валуны… массы земляных работ – свыше 250 000 кубометров, насыпи до 7 метров высоты на болотах, около четырех десятков мостов, непредвиденные трудности вроде знаменитой “мокрой выемки”, являющейся следствием сообщения двух озер, ураганы… работа в зимние полярные ночи при фонарях и многое другое…» [1]. При этом заключенные были лишены полноценного отдыха, нормального питания и подходящей одежды. При всех этих нечеловеческих условиях железнодорожная ветка, проложенная за год вручную по долине реки Белой и по берегу озе- ра Вудъявра, была построена к 26 июня 1930 года, на 35 дней раньше выработанного Правительственной комиссией срока. Эти работы принесли УСЛОН доход в 1,5 млн рублей [7; 39]. Начало работы железной дороги открыло возможности для заброски спецпоселенцев, поставки строительных материалов [13].
Развитие промышленно-колонизационного центра активизировало работу Мурманской железной дороги и Мурманского порта. В 1930 году в Гамбург через Мурманск направлена первая партия, 750 т хибинского апатита [17]. Объем грузооборота в Мурманском порту резко возрос также за счет лесоэкспорта. В условиях нехватки рабочих рук в Мурманском пункте СЛОН были организованы артели для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Силами УСЛОН в Мурманском порту велись земленасыпные работы для постройки на этом участке траловой базы Севгосрыбтреста, осуществлялась добыча камня для постройки дамбы, работы на лесных биржах [24]. При тяжелой выполняемой работе бытовые условия пункта оставляли желать лучшего: заключенные не имели возможности мыться в бане, не выдавалось белье, не оказывалась медицинская помощь [15].
Тем временем задания на добычу и вывоз горной породы становились все более серьезными. В 1930/31 году Правительственной комиссией было намечено добыть 500 000 т руды. На разработках было занято около 1500 человек, работавших беспрерывно по 12 часов. Трест испытывал существенный недостаток транспорта и техники, работы производились вручную. Добыча осуществлялась примитивным способом – по построенному деревянному спуску, который в связи с сильной изношенностью не годился к эксплуатации. В результате из намеченных к добыче и вывозке 250 000 т апатита на 1 октября было добыто лишь 22 000 т и вывезено около 5 000 т. Задание было выполнено лишь на 20 % [23].
Отсутствие необходимых условий труда и техники компенсировалось организацией социалистических соревнований среди заключенных и «распределением продуктов питания по трудовому принципу» [11]. В это время издания лагеря пестрят лозунгами типа «Даешь апатиты!», «Нефелин – не филонь2!» и др. На практике это означало, что заключенный получал шанс на лучший паек (следовательно, на выживание) только при условии ударного труда и выполнения нормы с завышенными показателями. Социалистические соревнования среди артелей УСЛОН практиковались и при строительстве, погрузочных работах, лесозаготовках.
Главной же составляющей принуждения к труду заключенных, которую привнесли Соловецкие лагеря на Кольский полуостров, являлось физическое насилие. Обследование Соловецких лагерей Особой комиссией под председательством секретаря Коллегии ОГПУ А. М. Шанина показало, что Третье и Шестое отделения не составляли исключения в общей картине жесточайшего обращения с заключенными: здесь, как и в других командировках и отделениях лагеря, были выявлены факты систематических избиений, в том числе зафиксированы случаи с летальным исходом [27]. Неудивительно, что в отделениях часто совершались попытки к бегству. В ноябре 1929 года 60 заключенных, обезвредив охрану, покинули место лесоразработок возле Мурманской железной дороги. Перейти границу с Финляндией удалось группе из 18 человек, остальные были задержаны погранохраной [19].
Трест «Апатит» нуждался не только в рабочей силе. В начале 1930-х годов квалифицированные специалисты для рудников подбирались также через Соловецкие лагеря. Отдаленность Мурманского округа от центра страны, суровые климатические условия затрудняли подбор вольнонаемных специалистов. Среди причин, отпугивающих административный и инженерно-технический персонал от поездки в Хибины, управляющий трестом В. И. Кон-дриков называет «острый жилищный кризис, усугубленный рядом других причин бытового характера» [5; 44].
Кроме того, тресту было выгодно комплектовать квалифицированные кадры из заключенных, так как «аренда» лишенных свободы сотрудников обходилась гораздо дешевле. Согласно условиям договоров между трестом «Апатит» и СИКМ ИТЛ, для «законтрактованных» специалистов из заключенных устанавливался ненормированный рабочий день. Оплата труда «рабочей силы» перечислялась на счет УСЛАГ3. Лагерь оставлял за собой право снять заключенных с работ в любой момент [5; 8, 21, 37–38]. Соловецкие лагеря оказались способны поставлять тресту заключенных самых разнообразных специальностей (даже таких, которые трудно было найти на свободе) [5; 21, 31, 45]. Многие «законтрактованные» специалисты оказывались незаменимы: об этом красноречиво свидетельствует переписка треста с ОГПУ по вопросу их оставления на производстве. Только распоряжение от вышестоящих инстанций ОГПУ порой становилось решающим в вопросе продления срока работы сотрудника [5; 23, 31, 44].
История сохранила имена некоторых лишенных свободы специалистов. Работа по изучению деятельности каждого из них еще предстоит. Видное место принадлежит минералогу, талантливому ученому и преподавателю Борису Александровичу Линденеру [5; 26], проектировщику и первому горному инженеру апатитового рудника Петру Николаевичу Владимирову [5; 1–6], заведующему 2-м участком рудников штейгеру4 Семену Исаевичу Левитину [5; 31–32] и др
После очередной реорганизации системы Соловецких лагерей в 1931 году отделение переименовали в Шестой (Хибинский) отдельный пункт СЛАГ ОГПУ. Свидетельства о размещении заключенных Соловецких лагерей в Хибинах сохранились во многих сообщениях высланных [12], [14], [16] и др. Так, А. Лескова вспоминает: «Мы приехали в Хибины в тридцатом году, 14 марта… по одному, по два вагона доставили до места на “кукушке”. Едем-едем и свалимся, потому что рельсы прямо по кочкам в снегу были положены. Дорогу эту строили заключенные. Они жили там же на 13-м километре, где и нас поселили, только с другой стороны» [16].
В 1931 году часть жилого фонда Управления Соловецкими лагерями на 13-м и 25-м километрах была передана Горкомхозу, палаточный городок на 13-м километре был полностью ликвидирован [4]. Вероятно, ликвидация пункта УСЛОН была вызвана усилившейся кампанией против рабского труда в СССР со стороны Запада, когда проводилось устранение всех следов мест заключения на Севере. Освобожденные шалманы и бараки отводились спецпересе-ленцам. Их силами было продолжено промышленное развитие Кольского полуострова.
Проведенное исследование показывает, что заключенные Соловецких лагерей сыграли значительную роль в начале промышленного освоения Кольского полуострова – прокладке первых дорог, осушении болот, разработке Хибинского апатитового месторождения. На долю контингента УСЛОН пришлись самые тяжелые строительные работы, которые требовали мобилизации трудовых ресурсов. При этом экстремальные условия труда и проживания заключенных не отличались от других материковых и островных отделений Соловецких лагерей. Способы стимулирования и принуждения к труду, применяемые в отношении спецконтингента на Кольском полуострове, генетически связаны с методами, введенными в СЛОН. Статистические показатели свидетельствуют о низкой производительности труда заключенных. Отдельный вклад в развитие промышленности Мурмана внесли специалисты из числа заключенных.
БЛАГОДАРНОСТИ
Автор выражает глубокую признательность доктору исторических наук, профессору Мурманского государственного гуманитарного университета А. А. Киселеву за высказанные рекомендации к работе, а также заместителю председателя Хибинского общества «Мемориал» О. П. Смоленчук и старшему научному сотруднику Мурманского областного краеведческого музея К. Я. Коткину за содействие в поиске дополнительных материалов, обогативших настоящее исследование.
СОКРАЩЕНИЯ
ГАМО – Государственный архив Мурманской области (г. Мурманск).
ГАМО в г. Кировске – Государственный архив Мурманской области в г. Кировске.
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации (г. Москва).
ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых лагерей ОГПУ.
ИТЛ – исправительно-трудовые лагеря.
КМК – Карело-Мурманский край, журнал.
НАРК – Национальный архив Республики Карелия (г. Петрозаводск).
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление при СНК СССР.
ОДСПИ ГААО – Отдел документов социально-политической истории Государственного архива Архангельской области.
СИКМ ИТЛ – Соловецкие и Карело-Мурманские исправительно-трудовые лагеря (с 1930 года).
СЛАГ – Соловецкие лагеря (с 1931 года).
СЛОН – Соловецкие лагеря особого назначения ОГПУ (с 1923 года).
УСЛАГ – Управление Соловецких лагерей (с 1931 года).
УСЛОН – Управление Соловецких лагерей особого назначения ОГПУ (с 1923 года).
ЦА ФСБ – Центральный архив Федеральной службы безопасности (г. Москва).
Список литературы Соловецкие лагеря и экономика Кольского Севера в 1920-х - начале 1930-х годов
- Б. Э. Нефелин -не филонь//Новые Соловки. 1930. 8 июля. № 30. С. 3.
- Вернадский В. И. Дневники. 12 февраля 1932 г.//Архив РАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 6-6 об.
- Гаевский П. Образование Хибинского промышленного центра//КМК. 1928. № 9. С. 11-13.
- ГАМО в г. Кировске. Ф. 194. Оп. 1. Д. 1-34. Л. 832.
- ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Производственное объединение Аппатит имени С. М. Кирова. Оп. 1. Д. 25.
- ГАМО. Ф. Р-773. Кондриков В. И.
- ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 2919.
- Географический словарь Кольского полуострова/Под ред. В. П. Вощинина. Л., 1939. Т. 1.
- Горский. Мурманский пункт//Новые Соловки. 1930. № 27. С. 3.
- Д. Колонизация Мурманской ж[елезной] д[ороги]//Новые Соловки. 1926. № 45(97). 7 ноября. С. 1.
- Даешь апатиты//Новые Соловки. 1930. № 30. 8 июля. С. 2.
- Ершова О. Это было, было! [Воспоминания]. Л. 4//Архив Хибинского ИПО «Мемориал».
- Закончена постройка Хибинской ветки//Новые Соловки. 1930. № 28. 28 июня. С. 1.
- Карпанина (Таюшева) А. Н. Урал -Хибины -Родина моя [Воспоминания]. Л. 2//Архив Хибинского ИПО «Мемориал» (г. Апатиты, Мурманская обл.).
- Лагкор. Мурманск//Новые Соловки. 1930. № 8. 16 марта. С. 3.
- Лескова А. Тогда мы могли построить коммунизм [Воспоминания]. Л. 1//Архив Хибинского ИПО «Мемориал».
- Лин П. Аппетиты к апатитам (Письмо из Гамбурга)//КМК. 1930. № 3. С. 21.
- Н. В. УСЛОН на Мурмане (Беседа с заведующим рыбо-звероловными промыслами на Соловках и Уполномоченным УСЛОН на Мурмане В. П. Доильницыным)//Новые Соловки. 1926. № 45(97). 7 ноября. С. 1.
- НА РК. Ф. Р-690. Оп. 1. Д. 19.216. Л. 9-10.
- ОДСПИ ГААО. Ф. 5715. Оп. 1. Д. 11. Л. 361.
- Отчет комиссии А. М. Шанина коллегии ОГПУ об обследовании Соловецких лагерей. ЦА ФСБ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 116. Л. 1-3. Опубл.: Архив А. Н. Яковлева [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/1002596
- По краю: На апатитовых разработках//КМК. 1930. № 3. С. 33.
- По краю: На апатитовых разработках//КМК. 1930. № 7-8. С. 55.
- Поляров. Океан побежден//Новые Соловки. 1930. № 15 (17 апр.). С. 3.
- Рождение ГУЛАГа: дискуссии в верхних эшелонах власти. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б). 1929-1930 гг./Публ. С. А. Красильникова//Исторический архив. 1997. № 4. С. 145.
- Хибинский массив (Очерк научных результатов экспедиций в Хибинские и Ловозерские тундры 1920-1921 и 1922 гг.)/Под ред. А. Е. Ферсмана. М.; Пг., 1923. С. 63.
- ЦА ФСБ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 116. Л. 102-112. Опубл.: Архив А. Н. Яковлева [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/1000703
- Чиркин Г. Промышленные перспективы хибинских минеральных богатств//КМК. 1929. № 8/9. С. 3-8.
- Берлин В. Хибинское эхо ГУЛАГа//Культурологический альманах АСТЭС. Вып. 5. Мурманск, 2008. С. 7-77.
- Киселев А. А. ГУЛАГ на Мурмане: Репрессии 30-х -50-х годов XX века на Кольском полуострове: очерки. Мурманск: МГПУ, 2008.
- Матвеев А. Хибины -новенький вагон в социалистическом поезде//Котлован: Спец. вып. Хибинского отделения общества «Мемориал». [б. г.]. С. 5.
- Мурман, Хибины: До и после./Под ред. Г. Бодровой; Хибинское общество «Мемориал». Апатиты: Север, 2002.
- Пленники Хибин (По материалам Кировского историко-краеведческого музея)//Хибинский вестник. 2009. № 42. 22 октября. С. 7.
- Шашков В. Я. Репрессии в СССР против крестьян и судьбы спецпереселенцев Карело-Мурманского края. Мурманск, 2000.