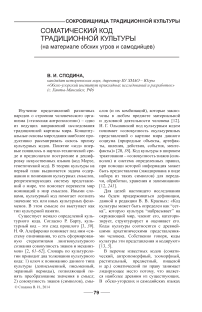Соматический код традиционной культуры (на материале обских угров и самодийцев)
Автор: Сподина Виктория Ивановна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Сокровищница традиционной культуры
Статья в выпуске: 2, 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается тело человека как первичная основа концептуализации мира. Сквозь призму соматического кода раскрывается типичный прием архаического мышления - антропоморфизация окружающего мира.
Традиционная культура, соматический код, обские угры, самодийцы, традиционное мировоззрение, спина, голова, сердце
Короткий адрес: https://sciup.org/14723094
IDR: 14723094
Текст научной статьи Соматический код традиционной культуры (на материале обских угров и самодийцев)
«Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» (г. Ханты-Мансийск, РФ)
Изучение представлений различных народов о строении человеческого организма («телесная антропология») – одно из ведущих направлений исследования традиционной картины мира. Концептуальные основы мироздания наиболее продуктивно рассматривать сквозь призму культурных кодов. Понятие «код» впервые появилось в научно-технической среде и предполагало построение и дешифровку искусственных языков (код Морзе, генетический код). В теории культуры на первый план выдвигается задача содержания и понимания культурных смыслов, репрезентирующих систему представлений о мире, что помогает перевести мир номинаций в мир смыслов. Иными словами, культурный код помогает осознать значение тех или иных культурных феноменов. В этом смысле он выступает как тип культурной памяти.
Существует немало определений культурного кода. Согласно Р. Барту, культурный код – это след прошлого [3, 39 ]. Н. Ф. Алефиренко понимает под ним «систему означивания, то есть сформированную стереотипами лингвокультурного сознания совокупность знаков и механизмов» [2, 61–62 ]. Словарь по культурологии приводит два толкования культурного кода: 1) ключ к пониманию данного типа культуры (дописьменный, письменный, экранный периоды), позволяющий понять преобразование значения в смысл; 2) совокупность знаков (символов), смы- © Сподина В. И., 2014
слов (и их комбинаций), которые заключены в любом предмете материальной и духовной деятельности человека [12]. И. Г. Ольшанский под культурным кодом понимает «совокупность окультуренных представлений о картине мира данного социума (природные объекты, артефакты, явления, действия, события, менте-факты)» [20, 38 ]. Код культуры в широком трактовании – «совокупность знаков (символов) и система определенных правил, при помощи которой информация может быть предоставлена (закодирована в виде набора из таких символов) для передачи, обработки, хранения и запоминания» [12, 241 ].
Для целей настоящего исследования мы будем придерживаться дефиниции, данной в редакции В. В. Красных: «Код культуры может быть определен как “сетка”, которую культура “набрасывает” на окружающий мир, членит его, категоризирует, структурирует и оценивает его. Коды культуры соотносятся с древнейшими архетипическими представлениями человека. Собственно говоря, коды культуры эти представления и кодируют» [13, 5 ].
В перечне известных кодов (соматический, антропоморфный, зооморфный, растительный, предметный, пищевой и др.) соматический по праву занимает лидирующее место потому, что является наиболее древним из существующих. В обско-угорских и самодийских языках
Финно – угорский мир. 2014. № 2 он составляет наиболее продуктивную группу фразеологических единиц. Код культуры определяется по базовому образу в результате обобщения внутренних форм однотипных косвенных номинаций. Так, для соматического базовыми образами будут служить названия частей тела человека.
Чаще всего в соматических фразеологизмах употребляются названия тех частей тела, функция и значение которых очевидны. Например, в традиционной культуре активно участвуют фразеологизмы с компонентами «спина» (как часть туловища и как позвоночник), «ребра», «голова», «ноги», «лицо», «сердце», с помощью которых обозначены три важные функции: ориентационная (спереди-сзади, верх-низ, центр, право-лево), опорная и защитная.
Ориентационная функция. В традиционной культуре хантов понятие «спина» закреплено за дальней, тыльной частью объектов природы, поселений: ‘[За] спину [имеющим] селением моим, за его спиной животные стоят’ [16, 238 ]; Ш а ш вош ‘Со (стороны) спины поселение’ (с. Шурыш-кары) [17, 18 ]. Мансийская топонимика дает многочисленные примеры использования сомонимов в названиях географических объектов: Х о й сыс кёлыг ‘Болото позади (букв.: на спине) горы Х о й ’; Х о й сысх а льур ‘Березовая гора позади (букв.: на спине) горы Х о й ’; П а выл сыс с о с ‘Ручей за (букв.: за спиной) поселением’ [15, 81 , 82 , 113 ].
Понятие «спины» прочно закрепилось в качестве пространственного ориентира за тыльной частью различных предметов и строений.
-
1. Противоположная от двери дома стена является спиной. Пространство за ней как священное пространство нельзя пересекать. Хантыйское выражение хот шаншон а д яцха означает ‘не ходи за домом’ (букв.: за спиной дома). Дымовое отверстие в задней части дома в переводе с хантыйского – «спины дыра».
-
2. Чум хантов-оленеводов тайги и лесотундры урхот ‘лесной дом’ также имеет спину ( хотсас томпина ) [23, 162 , 167 ].
-
3. Священный угол дома у юильских (казымских) хантов, где устанавливают для обряда гадания медвежью голову, также называется хот шаншан ‘спина дома’ [17, 13 ].
-
4. Задняя часть чувала (печи) по-хантыйски называется щухал шăнш пәлăк ; мансийское выражение кўр сыс ‘за печку’ (букв.: спина печки).
-
5. Спину имеет и хантыйский хасап ‘полог’.
-
6. Дальняя часть рыболовного запора (вид ловушки) – вар шăнш ‘запора спина’.
-
7. Наружная сторона двери также называется шăнш ‘спина’ (хант.). Когда человек выходит из жилища, то, чтобы указать, в каком месте от двери нужно искать необходимую вещь, говорят: ов шăнш пєләк ‘со спины двери’, т. е. снаружи.
-
8. Задний отросток рога – шăyш ющ (букв.: спина-отросток) [21, 30–31 ].
Если за тыльной, задней частью предметов закреплено понятие спины, то за важными элементами предметов материальной культуры, которые находятся непосредственно перед глазами человека, утвердилось понятие лица. Лицо имеют хантыйский полог хасап вес ‘лицо полога’ [23, 163 ], различные части отростков рогов оленя: веш нярт ‘передний отросток рога оленя’ (букв.: лицо-отросток); веш оӊат ‘основной ствол рога оленя’ (букв.: лицо-рог); хув веш нярт ‘передний отросток рога, нависающий на морду оленя’ (букв.: длинный-лицо-отросток) [21, 30–31 ]. У ненецких сапог-пимов различают пемаӊша’ ( пемаӊшат ‘пима лицо’). Лицо ( шат ) имеет и ненецкий бубен пенша д .
Оппозиция верх-низ в традиционном мировоззрении реализуется через такие сомонимы, как «зад», «ступня (ноги)» – низ, «голова» – верх. Дно (низ) котелка устойчиво сравнивается с ягодицами ( тет кы д щи’ку ‘котла задничка’, лесн. нен.), тыльная (нижняя) часть лыжи д ампац цын д ат - это ‘лыжи ступня (подошва)’.
Верх в оппозиции верх-низ реализуется через сомоним «голова». В хантыйской песне «Казымской богини удачу (при- носящая) песня» с головой сравнивается верхняя часть чума, образованная жердями [16, 239]. Компонент «голова» также содержится в названии загибов (кверху) передних частей лыж (дампац цайва ‘лыжи голова’, аг. хант.). Сомоним «голова» в роли второго компонента сложносоставных слов довольно часто встречается в языке шурышкарских хантов, например: вершина горы – кев ох ‘камня голова’, калоша – сопек ох ‘сапога голова’ (то, что надевается сверху).
В традиционной культуре обских угров и самодийцев оппозиция правый-левый реализуется через понятия «бок», «сердце»: пут пуму д ‘котла бок’ (аг. хант.), хот питәр (букв.: бок, стена дома). Боковину мешка кырых поцу д ‘мешка боковина’ аганские ханты определяют по местонахождению шва или складки на противоположной стороне мешка. Левая сторона, как правило, номинируется с помощью сомонима «сердце»: левая сторона – самаӊ пелкем (букв.: сердечная сторона, приур. хант.), левая рука – самаӊ пелак ёсэм (букв.: сердечная сторона (моей) руки, приур. хант.).
Сердце часто символизирует серединную позицию, что находит соответствие в этимологии слов «середина», «посреди», «внутри». В качестве примера приведем образцы спланхнонимических фразеологизмов с компонентом «сердце» в хантыйском языке приуральского диалекта: движущая часть часов, пружина – щёс сам ‘часов сердце’, сердцевина – сам кутпал ‘сердца середина’, сердцевина дерева – юх сам ‘дерева сердце’, артерия – кур сам ‘ноги сердце’, дно чашки – ан сам ‘чашки сердце’, середина огня – тут сам ‘огня сердце’, подушечка пальцев – луй сам ‘пальца сердце’, центральная часть ладони – пат сам ‘руки основа сердца’, ребеночек – сам посхием ‘сердца детеныш’, пульс человека – ёш-сăм ‘рука-сердце’ [25, 101 ]. У плетеной ловушки для рыбы – морды рамка ( ня’ав , лесн. нен.) с воронкой, в которую заходит рыба, имеет название щейтат (от ще’эй ‘сердце’). Сомоним «сердце» часто символизирует серединную позицию явления природы:
полночь – ат сам ‘ночи сердце’, середина зимы – тал сам ‘зимы сердце’.
Функция опоры. Как нечто основательное спиной называется опорная часть нарт (спинка) - шанш сохэ д (букв.: доска спины), деталь лука - так шаншап йвхэ д ‘стрела с крепкой спиной’ [27, 100 ], середина весла - шанш д уп (букв.: спина весла) [14, 110 ]. В объектах материальной культуры лесных ненцев со спиной ассоциируются вешала ( тасы ), на которых сушат шкуры, коптят рыбу, хранят рыболовные сети. Словом маха’ку ‘спинка’ именуются и жердочки чума, горизонтально прикрепленные к несущей жерди щимсу , на которых помещается крюк для удерживания над огнем чайника, котелка. В хантыйском доме «спиной» (или «позвоночником») являются балки, поддерживающие потолок. Центральную балку (матицу) ханты называют мят маа д ы ‘дома позвоночник’, а ненцы - маха д ы ‘позвоночник’.
Функция опоры присутствует и в такой части опорно-двигательной системы человека, как нога. Она, в частности, закреплена за копыльями ненецких нарт ( кāн ӊай ‘нарты нога’); «ногу» имеет корень языка ( ше ӊым пахамананта матаӊата ‘нога языка’) [11, 189 ]. Интересные примеры с сомонимом kŭr ‘нога’ для обозначения льда на реке приводит З. С. Ряб-чикова: sŭs-jԑη‘-kŭr ‘замерзшее место на воде осенью’ (букв.: нога осеннего льда, каз. хант.), Аs kŭr jeηk ‘лед середины Оби’ (букв.: Оби нога-лед) [24, 130 ].
Функцию опоры, надежной связи и подвижности всего скелета, по мифологической анатомии, обеспечивают суставы. Значение «сочленяющие» в традиционной культуре закреплено за дверными шарнирами ( куншол нем ‘локоть’, лесн. нен.). Хантыйская загадка о доме спрашивает, что это такое: ет д эн ки - ета, д уц д эн - д уца, кунш о д цем щи путлэ д ‘Если хочешь выйти – выходи, если хочешь зайти – входи, а то локоть протрется’ [19, 37 ].
Защитная функция представлена в бытовой лексике посредством сомонимов «кожа» и «ребра». Согласно традицион-
Финно – угорский мир. 2014. № 2 ным воззрениям объекты природы (дерево, земля) имеют кожу. Довольно развито у хантов представление о поверхности вод, водной глади как о коже - йидк с о х поњам (букв.: кожа воды). Самый верхний слой земли также ассоциируется с кожей ( мўв сух ‘кожа (шкура) земли’). Функцию защиты внутренностей от механических повреждений выполняют ребра. В традиционной культуре ребрами называются поперечины лодки-обласа, которые сохраняют ее целостность и форму. Ненецкая загадка о лодке спрашивает: Ӊамэ’ ӊапта-ӊа: тюм – ще’ев кавтэйта? ‘Что это такое: карась – а у него семь ребер?’ [5, 26 ].
Тело, его строение служат не только пространственно-ориентационной точкой отсчета, но и универсальным образцом для построения системы понятий. Сома-тизмы формируют образные основания большинства свойств и качеств предметов материальной культуры. Живот входит в довольно многочисленную группу фразеологизмов, образность которых обусловлена сравнением с самой большой полостью человека – брюшной. В ненецком языке для ее номинации существует общесистемное название мынчи ‘живот’, ‘нутро’. С животом как объемным вместилищем человеческого тела сравнивается землянка – ‘с животом дом’ (аг. хант.). В древности хантыйские полуземлянки мыг коот имели только одно верхнее окно (кот кон выс ‘брюха дома дыра’), своего рода пуп, не только служащий утилитарным целям, но и играющий важную роль в шаманских действиях (отсюда еще одно название – «дверь бубна»). Живот, нутро (хот лыпи ‘внутренность чума’) имеет и хантыйское переносное жилище урхот. Внутренность присутствует у многих бытовых предметов традиционной культуры. Аганские ханты отмечают нутро у котла (пут дых пелек ‘котла внутренняя сторона’), у железной печки, или чувала. Место для топки в традиционном сознании ассоциативно связывается с утробой, животом оленя (огнем опаленная хора утроба). Такое понятие, как живот, присутствует и у мешка (кырых коныд, аг. хант.): кыры^ коныд выс^ы е^ ‘мешка жи- вот дырявый стал’ [З. Русскина, стойбище на р. Айкаёган. 2008].
Функциональность является определяющей чертой при образовании метафор с базовыми элементами «рот» и «горло». Рот (устье печки) и горловину (дымоход) имеет железная печь кур ( кур уу , от усеченного ууал ‘рот’) [23, 168 ]. Чувал в ненецком языке не избежал антропоморфных сравнений: дымоход соотносится с понятием «горловина» (от шо ‘горло’, ‘пищевод’, ‘голос’) [ПМА, пос. Варьёган. 2000]. Проводящая функция горла и его трубкообразная форма отразились в названии такого бытового предмета, как лампа – ӆампа тўр ‘стекло с горлышком для керосиновой лампы’ (букв.: горло лампы) [24, 139 ].
Сомоним «глаз» (со значением «смотрит, ищет») входит составной частью в хантыйское определение такого элемента сети, как ячея: хо д уп сем буквально означает «сеть глаз» [27, 98 ]. «Ноздря» использовалась лесными ненцами во фразеологизмах в связи с ее сходством с отверстием, дырой ( пытян ши’ ‘носа дыра’), через которое жилище дышит. Ненецкая загадка спрашивает: «Что это такое? У Ильпи из ноздри зуб торчит» ( щим су – самая большая несущая жердь чума, выглядывающая из дымового отверстия) [28, 94 ]. Намек на присутствие губы в строении чувала прослеживается в загадке, записанной нами от В. М. Лозямо-ва (р. Лямин): «Что это такое? В темном углу дома с большой губой мужик стоит» Пат д ам хот сумон вен турпан хол ’ ол ’ или «В углу около дверей старец с большими губами стоит» Ким хот сўӊәӊ вөн турап йис хе д о д ь - Щухал ‘Чувал’.
Бытовая лексика изобилует сравнениями с ухом (по округлой форме и строению): «котла ухо» ( пут пы д , аг. хант.) - ручки котла, «уши покрытия» ( тетяӊ , лесн. нен.) – углы покрышек, в которые вдеваются шесты чума для поднятия покрышек-нюков. Один край загона из нарт у тундровых ненцев имеет в своем названии сомоним «ухо» – вад’ ха (букв.: ухо загона) [8, 14 ]. Уголки дна мешка ( кахатанта ) также в своем названии имеют компонент ка’
«ухо»: маны ’ ко д кахатанта ня ’ мат ‘мешок (свой) за уши возьми’ [Ю. К. Айваседа, стойбище на р. Тюйтяха. 2008].
Названия частей тела выступают продуктивными лексическими единицами для образования новых понятий: шур. хант. плоскогубцы ( карты ёш , букв.: железо, рука), шило ( ёш пор , букв.: рука, сверло), подпись ( ёш пос , букв.: руки знак), центр города ( вос сам , букв.: города сердце), каша ( сэмаӊ лант ‘мука с глазами’) [18, 38 ; 25, 55 ].
Перенос облика и строения физиологических систем человека на окружающий мир – типичный прием архаического мышления, в результате чего природные объекты уподобляются человеку, становятся «человекоподобными».
С помощью сомонима «глаз» в хантыйском языке обозначается сыпучее вещество или жидкость, которые могут быть соотнесены с глазом по форме: сєм йиӊк ‘слеза’ (букв.: глаз, вода); йиӊк сєм ‘капля воды’; йерт сем ‘дождинка’; д онъщ сем ‘снежинка’ (букв.: снег, глаз); вонъщу-мут сєм ‘ягода’ (букв.: ягода, глаз); ÿрпа сем ‘крупинка’ (букв.: крупа, глаз); д ант сєм ‘зерно’ (букв.: мука, глаз); нохăр сєм ‘орех’ (букв.: шишка, глаз); сăк сєм ‘бусинка’ (букв.: бусы, глаз) [27, 98–99 ]. Имя существительное «железо» ( картi , хант.), присоединяясь к сомониму «глаз» ( сϵм ), дает новое для хантыйской культуры слово – «очки» ( сϵм картi , букв.: глаз; металл, железо).
Особенностью архаического мышления является антропоморфизация окружающего мира. Антропоморфизм – важный принцип традиционной культуры, согласно которому неодушевленные предметы, живые существа, объекты и явления природы наделяются способностью чувствовать, разговаривать, думать, совершать осмысленные действия – иными словами, наделяются физическими и эмоциональными качествами человека. Физиологические ощущения составляют довольно много- численную группу фразеологизмов, образность которых обусловлена рефлекторными реакциями человеческого организма. Ханты считают, что дом как живое антропоморфное существо слушает, видит, сидит, предостерегает хозяина, предсказывая нежелательные явления. Например: «Дом мой видит, слышит» (Хотем семэтд-падэтд, букв.: глазеет-ушит). Согласно традиционному мировоззрению дом (чум) имеет голос (кадца мят ‘голос дома’) и, особенно, дыхание. Верхняя часть жилища – дымовое отверстие – называется мят шетю ‘жилища дыхание’. Другое название - хадва - дословно переводится как «вдох» (хад ‘обратно’) и «выдох» (ва ‘верх, вершина’).
Огонь также мыслится живым, очеловеченным, могущим говорить. Пламя уля нёлме буквально означает ‘язык огня’ или урты ка д мэ д ‘его (огня) красные языки пламени’ (шур. хант.) [14, 97 ]. Отношение к огню всегда было и остается как к живому существу. Если огонь нужно было разводить сырыми дровами или дровами в песке или с гвоздями, то ханты приговаривали: « Тут-ими, турэн лайлы » ‘Огонь-матушка побереги горло’. Огню, как человеку, ставили угощение, через него передавали приношение в Нижний мир ( тут пела омтылыты ) [22, 49 ]. Интересно отметить, что мансийский глагол тэнгкве ( тэйг ) в отношении человека означает «есть» (ест), а по отношению к огню – «гореть» (горит). По поверьям селькупов, огонь нельзя затаптывать, плевать в него – обидится [10, 47 ]. Манси догорающий костер не тушили, а лили воду вокруг кострища, уходя, говорили духу огня: « Нангкин нангки ургалэлын » ‘Ты сама себя [свои действия] контролируй)’ [4, 208 ]. Огонь, как правило, представлялся в женском облике. Обращение к нему всегда было уважительным: Тяка Аквув – (наша) Тетушка-Огонь, Сорни Най-Аги – Золотая Огненная Дочь, Сат нелмуп Сорни Най-Аги – Семиязыкая Золотая Огненная Дочь.
Дом, как и человек, может заболеть язвой, чумой, покрыться коростой ( ми д ю мя , лесн. нен.). Жилище может «упасть» ( ил питам хот ‘упавший дом’),
®
Финно – угорский мир. 2014. № 2
т. е. остаться без наследников [22, 51 ], износиться [манc. кол росах – ‘дом-развалюха’, букв.: дом оборванный (в лохмотьях)]. Жилище, как и человека, в конце «жизни» ожидает смерть. Для описания данного состояния используется фразеологизм типа: ӊыи ян каймы мяты ‘ушедшая в другой мир стоянка чума’ ( ӊыи ян каймы мяты ) или ‘дыхание чума обрезали’ ( ха д ватущи матада ), т. е. все в жилище умерли. Это выражение употреблялось во время эпидемии [26, 89 ].
Характерная особенность традиционного сознания – уподобление животного мира человеку. Манси передние конечности зверей называют руками: кăтагум (букв.: руки мои); ср.: задние лапы медведя – сюкамаге (букв.: изношенные башмаки его). Мансийское название крота няркāт (букв.: голая рука) представляет собой парафразу. «Эта композита, – замечает Е. А. Игушев, – не лишена метафоричности: передние лапы этого зверька лишены волосяного покрова. Таким образом, в представлении обских угров передние лапы животного отождествляются с руками человека» [9, 194 ].
Медведя, имеющего наиболее выраженное сходство с человеком во внешнем облике и поведении, ханты величают своим «братом» ( йипых-ики ). Залегший в спячку медведь считался «покойником». Антропоморфными чертами наделены и птицы: кедровка у казымских хантов метафорически называется «шишки кушающая женщина», ворона – «охраняющая женщина».
Перенесение человеческих качеств на животных находит подтверждение в хантыйских названиях насекомых. Стрекоза и паук уподобляются мужчине или женщине, в названии кузнечика описываются человеческие действия – «сушащий сено зверь», таракана – «хлеб кушающий зверь». В фольклоре ненцев насекомые также наделяются человеческими чертами: оводы носят «одежду из бобровых шкур», комары – «одежду, добытую их отцами, сшитую матерями» [6, 416; 29, 63]. Возможно, ассоциация ткущего нить паука с человеком послужила обоснованием зафикси- рованных у ненцев представлений о его священности. С пауком связан и обратный процесс перенесения характерных особенностей насекомого на человека. Например, в версии полуйских хантов название паука – хилам-ими-хада – переводится как «копуша женщина-бабушка», в то же время на р. Сыня существует устоявшееся определение медлительного человека: «Что ходишь, как паучиха?» [1, 176].
Исходя из вышеизложенного следует заключить, что перенос облика и строения физиологических систем человека на окружающий мир – типичный прием архаического мышления, в результате чего природные объекты уподобляются человеку, становятся «человекоподобными». Тело человека через сомонимы задает параметры изначального измерения пространства как по горизонтали (левый – вичи"шат ‘лицо-сторона’, правый – маханяӊи , букв.: со стороны спины), так и по вертикали (верх – оух ‘голова’, низ – кўр ‘нога’), а сомоним «сердце» определяет срединную позицию предметов и явлений окружающего мира. Фразеологизмы с компонентом «сердце», кроме того, участвуют в номинации левой стороны. Названия частей человеческого тела, органов и физиологических систем являются носителями значимых для культуры смыслов, выступая в роли знаков «языка» традиционной культуры и оставаясь важным способом описания структуры мира. Присутствие антропоморфизма в реалиях окружающей действительности актуализирует классическую проблему адекватности представлений о мире самому миру.
Список литературы Соматический код традиционной культуры (на материале обских угров и самодийцев)
- Адаев, В. Н. Традиционная экологическая культура хантов и ненцев/В. Н. Адаев. -Тюмень: Вектор Бук, 2007. -240 с.
- Алефиренко, Н. Ф. Поэтическая энергия слова. Синергетика языка, сознания и культуры/Н. Ф. Алефиренко. -М.: Academia, 2002. -394 с.
- Барт, Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика/Р. Барт; сост., общ. ред. и вступит. ст. Г. К. Косикова. -М., 1989. -616 с.
- Вынгилева, Н. П. Огонь-най в культуре манси//Культурное наследие народов Сибири и Севера. -СПб.: МАЭ РАН, 2005. -С. 206-210.
- Вэлла, Ю. Поговори со мной (второй вариант)/Ю. Вэлла. -Нижневартовск, 2004. -128 с. 6. Головнёв, А. В. Говорящие культуры. Традиции самодийцев и угров/А. В. Головнёв. -Екатеринбург: Уральский рабочий, 1995. -606 с.
- Гуревич, А. Я. Время как проблема истории культуры//Вопр. философии. -1969. -№ 3. -С. 74-97.
- Диалектологический словарь ненецкого языка/под ред. Н. Б. Кошкарёвой. -Екатеринбург: Баско, 2010. -352 с.
- Игушев, Е. А. Об особенностях номинации абстрактных понятий в обско-угорских языках//Сохранение традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера и проблема устойчивого развития. -Ханты-Мансийск -Москва, 2004. -С. 191-196.
- Ириков, С. И. Традиции и обычаи селькупов//История и современность народов Ямала. -Салехард, 1995. -С. 43-47.
- Кошкарева, Н. Б. Очерки по синтаксису лесного диалекта ненецкого языка. Ч. 1. Синтаксические связи/отв. ред. А. А. Мальцева. -Новосибирск: Любава, 2005. -334 с.
- Кравченко, А. И. Культурология: словарь/А. И. Кравченко. -2-е изд. -М.: Академический проект, 2001. -672 с.
- Красных, В. В. Коды и эталоны культуры (приглашение к разговору)//Язык, сознание, коммуникации: сб. стат. Вып. 19/отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. -М.: МАКС Пресс, 2002. -С. 5-19.
- Лонгортова, В. П. «Щўњэм -Щăња йхан» «Моё вдохновение -Сыня река»/В. П. Лонгортова. -Салехард: Красный Север, 2011. -128 с.
- Матвеев, А. К. Материалы по мансийской топонимии горной части Северного Урала/А. К. Матвеев. -Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2011. -260 с.
- Мифология хантов. -Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000. -Т. 3. -310 с.
- Молданов, Т. Картина мира в песнопениях медвежьих игрищ северных ханты/Т. Молданов. -Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. -141 с.
- Молданова, Т. А. Мелкие птицы (птички) в фольклоре и верованиях хантов//Фольклор в истории народа и его место в современной культуре. Томск. -2005. -С. 57-65.
- Немысова, Е. А. Хантыйские загадки: учеб. изд./Е. А. Немысова. -СПб.: Мирал, 2006. -С. 37.
- Ольшанский, И. Г. Лингвокультурология в конце ХХ в.: Итоги, тенденции, перспективы//Лингвистические исследования в конце ХХ в. -М., 2000. -С. 26-55.
- Онина, С. В. Отраслевая лексика хантыйского языка: словарный состав, связанный с оленеводством: моногр. -Йошкар-Ола: Стринг, 2003. -154 с.
- Рандымова, З. И. Чум в мировоззрении ханты//История и современность народов Ямала. -Салехард, 1995. -С. 47-51.
- Рандымова, З. И. Чум хантов-оленеводов//Этнография народов Западной Сибири. Сибирский этнографический сборник. Вып. 10. -М., 2000. -С. 165-168.
- Рябчикова, З. С. Соматическая лексика хантыйского языка: моногр./З. С. Рябчикова; [отв. ред. Т. Н. Дмитриева]. -Ханты-Мансийск: Принт-Класс, 2012. -264 с., ил.
- Серасхова, М. Е. Структурно-грамматическая характеристика спланхнонимических фразеологизмов с компонентом «сердце» в хантыйском языке (приуральский диалект)//Материалы IV Молодёж. регион. науч.-практ. Конф. «Языки, история и культура народов Югры». -Ханты-Мансийск, 2009. -С. 98-102.
- Соловар, В. Н. Дом в языковой картине мира хантов и ненцев/В. Н. Соловар, Н. И. Выла//Вопр. уралистики 2009: науч. альманах. -СПб., 2009. -С. 89.
- Соловар, В. Н. О некоторых особенностях структуры и семантики названий частей тела в обско-угорских языках/В. Н. Соловар, А. В. Дубасов//Вестн. угроведения. -СПб., 2006. -№ 2. -С. 97-101.
- Сподина, В. И. Представление о пространстве в традиционном мировоззрении лесных ненцев/В. И. Сподина. -Нижневартовск, Новосибирск: Изд. центр «Агро»: Изд. группа «Солярис»: «ЦЭРИС», 2001. -124 с.
- Сусой, Е. Г. Экологический календарь ямальских ненцев//Ямальский меридиан. -1993. -№ 4. -С. 63.