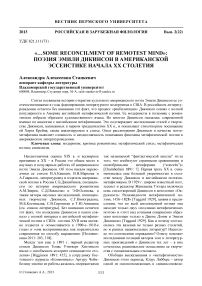«.Some reconcilment of remotest mind»: поэзия Эмили Дикинсон в американской эссеистике начала XX столетия
Автор: Станкевич Александра Алексеевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 2 (22), 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена истории открытия культового американского поэта Эмили Дикинсон ее соотечественниками в годы формирования литературного модернизма в США. В российском литературоведении остается без внимания тот факт, что процесс «реабилитации» Дикинсон совпал с волной популярности в Америке английской метафизической поэзии. Ее модернисты в полемике с романтизмом избрали образцом художественного языка. Во многом Дикинсон оказалась современной именно по аналогии с английскими метафизиками. Это подтверждает исследование статей о творчестве Дикинсон, написанных в первом тридцатилетии XX в., и показывает стихотворное посвящение ей Харта Крейна, также анализируемое в статье. Опыт рассмотрения Дикинсон в качестве поэта-метафизика выявляет сложность и неоднозначность понимания феномена метафизической поэзии в американском литературоведении.
Модернизм, критика романтизма, метафизический стиль, метафизическая поэзия, символизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14729199
IDR: 14729199 | УДК: 821.111(73)
Текст научной статьи «.Some reconcilment of remotest mind»: поэзия Эмили Дикинсон в американской эссеистике начала XX столетия
Неоднозначная оценка XIX в. и всемирное признание в XX – в России это общее место в научных и популярных работах об американском поэте Эмили Дикинсон. Об этом писали переводчики ее стихов И.А.Кашкин, В.Н.Маркова и А.Гаврилов, литературовед и издатель американской поэзии в России С.Б.Джимбинов, специалисты по истории американского романтизма А.М.Зверев, С.Д.Павлычко и Э.Ф.Осипова, а также авторы научных исследований, посвященных творчеству Дикинсон, С.Г.Виноградова, М.Б.Костицына, С.В.Сироштан и Т.Ю.Аникеева [см. список литературы]. Без внимания остается тот факт, что вхождение Дикинсон в канон совпало с волной интереса к английской метафизической поэзии в США: «поэзия XVII века активно издается и осмысливается в 1900-е–1910-е годы» и «она воспринималась как поразительно современная по способу выражения» [Половинкина 2011: 203, 318].
Между тем еще в 1891 г. первый редактор стихов Дикинсон Томас Уэнтворт Хиггинсон писал о «необычном колорите семнадцатого столетия» [Higginson 1891: 455], а сотруднику бостонского журнала «Коммонвелс» Артуру Чейм-белину многие ее работы казались «пережитками
так называемой “фантастической школы” из-за того, что изобилуют странными сравнениями и своеобразными метафорами (“conceits”)» [Chamberlain 1891: 7]. Первая треть XX в. ознаменовалась еще большей уверенностью в сходстве между Дикинсон и английскими поэтами-метафизиками. В 1929 г. широко известный поэт, эссеист и редактор Женевьева Тэггард включила семь стихотворений Дикинсон в антологию «Окружность: Разновидности метафизической поэзии, 1456–1828» [Taggard 1929], заявив в предисловии, что во всей англоязычной поэзии она находит только двух «подлинно метафизических поэтов» и «этот вид сознания совершенно образцово воплощен только в Джоне Донне и Эмили Дикинсон» [Taggard 1929]. Как и почему соотносились эти явления не только разных столетий, но и разных национальных литератур? Насколько это соотнесение оправданно? Ответу поможет исследование позиций авторов эссе и литературных произведений о Дикинсон тех лет – в них сочеталось рациональное осмысление ее творчества с эмоциональным откликом.
Обобщая высказывания о «метафизичности» Дикинсон этого периода, Клаус Лабберс – автор одной из основополагающих в «дикинсоноведе- нии» книг «Эмили Дикинсон. Критическая революция» [см. список литературы] – свел их к трем основным особенностям стиля. Во-первых, это преобладание духовного и интеллектуального над эмоциональным – крайность, развившаяся из желания представить Дикинсон художником, которого нужно понимать, чтобы им восхищаться. Это делало ее предтечей современного искусства, о котором Хосе Ортега-и-Гассет провозгласил: «Это искусство привилегированных, искусство утонченной нервной организации, искусство аристократического инстинкта» [Ортега-и-Гассет 1991: 221]. Вместе с тем писали и о тончайшем равновесии мысли и эмоции в поэзии Дикинсон. Один из ее ключевых образов – «окружность» («circumference») – Ж.Тэггард не случайно выбрала для названия сборника метафизической поэзии. Это метафора творческого принципа поэта-метафизика в понимании редактора: художественный текст вращается вокруг философской модели вселенной, но остается поэзией, воссоздающей «состояние сознания художника». Один из основоположников американской литературоведческой школы «Новой критики» поэт Аллен Тейт в статье 1926 г., в дальнейшем несколько расширенной и озаглавленной «Культура Новой Англии и Эмили Дикинсон», подчеркивал: «Мисс Дикинсон темна и трудна, но это не интеллектуализм». Под последним он подразумевал сознательную культивацию в поэзии философской идеи. Независимость же поэтической мысли Дикинсон, подчиняющейся лишь логике ее индивидуальности, имела результатом «идеальную литературную ситуацию» – едва ли не единственный случай во всей англоязычной поэзии XΙX в., на взгляд А.Тейта, «сплава чувства и мысли» в произведении («fusion of sensibility and thought») [Tate 1964: 164, 161].
Склонность Дикинсон представлять космическое и сакральное через обыденное с помощью «микро- и макроскопических сравнений», по наблюдениям К.Лабберса, была еще одним поводом для сравнений с поэтами «школы Донна». Эту особенность ее творчества профессор Колумбийского университета Марк Ван Дорен связывал с барочным остроумием: «Остроумие – это слово <…>, которое резюмирует Эмили Дикинсон; и нам нужно обратиться к его использованию несколькими веками ранее, чтобы выявить его полное значение» [Van Doren 1929: 349]. Присущее поэзии английских метафизиков остроумное развитие продуманных образов и использование метафоры в структурном качестве, когда «образ – и поэтический цемент и краткий способ коммуникации», усматривал в поэзии Дикинсон и профессор риторики и ораторского искусства Гарварда Теодор Спенсер [Spenser 1964: 132]. Не культивируемую особенность разума, а момент перехода в сознании считал А.Тейт одной из заметных связей Дикинсон с Дж.Донном. Для обоих поэтов христианская религиозная доктрина уже не была твердой системой ценностей, но они продолжали испытывать ее в терминах непосредственного опыта: «религиозные идеи, абстракции мгновенно опрокидываются из плана рационального на уровень восприятия. Фактически идеи – больше не безликие религиозные символы, когда воссозданы заново в жаре эмоции, который мы находим в таких поэтах, как Герберт и Воэн» [Tate 1964: 162].
Обратный эффект от подобного обращения Дикинсон с христианскими темами и образами – отсвет божественного на явлениях обыденной жизни – читатели первого тридцатилетия XX в. наблюдали и в барочной английской поэзии. Мистический тон ее любовных стихов К.Лабберс привел еще одной часто фиксируемой в те годы особенностью, в связи с которой упоминали имена и поэтов «школы Донна». Так, автор статьи в газете «Спрингфилд Репабликен» (1929) назвал в ряду предшественников Дикинсон с ее темами и метрами Ричарда Ролла из Хэмпоула, Траэрна, Крэшо, Фрэнсиса Томпсона и Джерарда Хопкинса. Редактор поэзии в газете «Нью-Йорк Таймс» Перси Хачисон поместил ее в один ряд с «четырьмя великими мистиками английской поэзии» – Гербертом, Воэном, Крэшо и английским поэтом рубежа веков Aлисой Мейнелл. При этом, комментируя стихотворение «A Wife – at Daybreak I shall be –», он писал: «В этих строфах Эмили идентифицирует отвергнутого возлюбленного с Христом, а Христос становится ее потерянным возлюбленным на земле; оба – одно, и каждый – оба» [Hutchison 1919: 3]. При этом, по словам Ж.Тэггард, эпоха модернизма нашла в их поэзии особый художественный язык, адекватный этому равновесию между индивидуальной человеческой жизнью и явлениями высшего порядка – того, как нужно «давать идею никакой иной формой кроме самой идеи <…> как если бы кости скелета пели в своем собственном ритме» [см.: Taggard 1929].
Выражая трудность обретения утраченного единства мира и человеческого сознания, модернисты восприняли родственными явлениями поэзию английских метафизиков и Дикинсон из-за их необычных метафор, плавящих разнородное и несоответственное. Постоянный сотрудник американских журналов Элизабет Шепли Соржент писала об исключительном «декоративном качестве» строк Дикинсон «Ветра удалились / как голодные псы / сраженные костью –» («The wind drew off / Like hungry dogs / Defeated of a bone – ») [Sergeant 1964: 91]. Внимание сторонницы имажистов привлекли подчеркнутая условность воссоздаваемого пейзажа, «вещность», зримость, выпуклость образов и всей внутренней логики стихотворения. Образцом подчинения художественного языка логике зрительного образа считали Дикинсон также редактор прогрессивного журнала «Поэтри» Хариет Монро и поэт Эмми Лоуэлл. Метрические «неправильности» («irregularities») Дикинсон, ее опыты с рифмой и синтаксисом начали воспринимать как произвольные приемы, сближающие поэзию с естественной речью, неразрывно связанной с мышлением. Э.Ш.Соржент писала о свободе «старой девы из Новой Англии» от традиционных форм, выразившейся, в частности, в экспериментах с верлибром, Тэггард – о «той же самой разговорной фразе, к которой прибегал Донн» [Taggard 1929].
Модернисты критиковали романтическую поэзию за вялость, неопределенность и сосредоточенность на внутреннем комплексе чувств и эмоций. На этом фоне миниатюры Дикинсон, в которых мысль и эмоция органически связаны, а метафора делает явной связь языка с явлениями внешнего мира, выгодно отличались. Так, английский журналист и эссеист Мартин Армстронг одну из главных особенностей ее стиля видел в ценной в современной поэзии «эмоциональной точности» [Armstrong 1964: 106]. Часто указывали на небольшой текстовый объем ее работ: «странные маленькие стихи» (писатель Перси Лаббак), «короткие концентрированные» или «узловатые эллиптические» («nubbly, elliptical verse» – Э.Ш.Соржент), «плотно упакованные маленькие стихотворения» («сlose-packed little poems» – М.Армстронг). При этом подчеркивалась их тщательнейшая продуманность, ведущая к огромной смысловой насыщенности (чем работы Дикинсон сопоставимы со «strong lines» дон-новских стихов). Все эти особенности ее творчества, соотносимые с модной английской поэзией XVII в., обусловили, по словам К.Лабберса, тенденцию «держать ее [Э.Дикинсон] подобно зеркалу перед современной поэзией». Поэты начинали ориентироваться на нее в размышлениях о своем месте в литературной истории, назначении творчества и его главных принципах.
Так поступает Харт Крейн с репутацией восходящей звезды и наиболее одаренного поэта США, чьи стихи появлялись в выдающихся авангардистских журналах «Брум», «Поэтри», «Литл Ревью» и обсуждались влиятельными в те дни критиками (Ван Вик Брукс, Кеннет Берк, Мэтью Джозефсон и Эдмунд Вильсон) и поэтами
(Аллен Тейт, Роберт Грейвс и Лаура Райдинг). В письме к другу Уолдо Фрэнку от 21 ноября 1926 г. он обмолвился о работе над стихотворением «To Emily Dickinson» – тогда она уже была для него кумиром, «перед кем Крейн благоговел чрезмерно, без границ» [McReed 2006: 191]. По форме посвящение напоминает блазон – жанр, широко распространенный во французской поэзии XIV в., повлиявший на сонеты Петрарки и Шекспира: четырнадцать десятисложных строк последовательно соединяются парными совершенными рифмами. Если изначально Крейн превозносил прекраснейшую часть тела возлюбленной, приближая автора и читателя к красоте мира идей, то по логике его погребальной элегии – популярнейшего жанра в американской литературе XVII столетия – превозносятся добродетели и деяния ушедшей (почти все глаголы, воссоздающие ее образ, употреблены в форме прошедшего времени).
Крейн обращается к ней как к человеку неуемных желаний («Вы, кто желали столь многого – напрасно спрашивать –»), что перекликается с широко распространенным представлением о Дикинсон в эссеистике первого тридцатилетия XX в. Приписываемые ей почти патологическая чувствительность, впечатлительность и постоянная настроенность на переживание себя в мире ценились в художниках как противоположность тому, что отмечал один из крупнейших теоретиков модернизма поэт Т.С.Элиот в поколении поэтов, сменивших художников барокко, – в У.Коллинзе, Т.Грее, С.Джонсоне и О.Голдсмите: «Если язык стал более изысканным, мироощущение, чувства стали грубее» [Элиот 2004: 554]. Превознося утонченность сознания Дикинсон, Крейн прибегает к одическому парадоксу, наделяя ее способностью совмещать крайности – голодание и насыщение; желавшую столь многого – ее «питал голод, подобный бесконечной обязанности» («Yet fed you hunger like an endless task…»). Сравнение отсылает к детали биографического портрета Дикинсон: живущая в фамильном доме вместе с родителями, она могла писать только в часы, свободные от домашних обязанностей. И часто в ее стихах возникает мотив голода как символа духовных ограничений. Обычно в них развивается восходящий к барочной литературе и христианский в своей основе парадокс: отсутствие желаемого оборачивается благом – ожидание оказывается лучше исполнения мечты.
Возможно, именно склонность Дикинсон к парадоксу, причудливым изгибам мысли в претворении недостижимого желаемого в действительность побудили Крейна провозгласить, что она «дерзнула придать достоинство затрудненности, благословить поиск» [Crane 1933: 128]. С еще большей уверенностью строчку можно счесть характеристикой ее поэтического стиля – темноты, ассоциативной многослойности, энигматичности. Не случайно далее Крейн приписывает ей осознание того, «что тишина, в конце концов, – самое лучшее…». Это и очередная аллюзия на биографию: в эпоху бурных споров о национальной литературе и расцвета трансцендентализма отшельница из Амхерста предпочла остаться, как сказано дальше в стихотворении, «существом, искомым менее всего» («Being, of all, least sought for»), выбрав тихую и незаметную жизнь в провинциальном городке. Понятие тишины распространяется и на неожиданные сравнения при скупости на слова, провоцирующие сложность смысла в работах Дикинсон, и на эффекты «открытых» финалов. Подобный кульминационный финал в стихотворении под условным названием «Колесница» А.Тейт привел примером «сплава мысли и чувства», наблюдаемого критиком и у Дж.Донна: «Нет решения проблемы; она может быть только представлена во всей полноте мысли и чувства» [Tate 1964: 161]. С этим высказыванием перекликается первое из значений слова «Silencer» (как назвал поэта Харт Крейн): 1) “воздерживающийся от любых действий, влекущих за собой выражение мнения”; 2) “заставляющее замолчать других, убедительный довод или неопровержимый аргумент”.
Риторическое начало сильно в творчестве Дикинсон, как и в английской метафизической поэзии. И подобно барочным метафизикам, она прибегает к традиционным в европейской культуре символам, аллегорическим и эмблематическим образам, выстраивая художественную аргументацию. Для Крейна эта особенность ее поэзии была важна не только в свете идей повлиявшего на него Т.С.Элиота, который настаивал на осознании художником традиции. Пример Дикинсон, самоустранившейся от прогрессивных литературных кругов и оказавшейся способной претворить застывшие догмы пуританской доктрины в текучий опыт жизни, стал для Крейна аргументом в пользу его привязанности к поэзии позднего символизма. Начав писать в 10-е гг. XX столетия, он «бессовестно подпал под чары британского fin de siècle» [McReed 2006: 27], что потом дорого ему обходилось – вплоть до запрещения Э.Паундом печатать его в «Поэтри». Наконец, в слове «Silencer» не исключается и значение “глушитель, устройство для подавления звука (в том числе и на стрелковом оружии)”: Крейну свойственно сочетание слов высокого поэти- ческого стиля с осколками лексики своего времени, века технических новшеств и больших городов. Это и вызывающее утверждение о способности «молчания» Дикинсон быть разяще убедительным, и очередной намек на особенности стиля, и образный ряд ее поэзии. Вспоминается барочное сравнение в одном из известных стихотворений «Стояла жизнь моя в углу / Заряженным ружьем…» (пер. В.Марковой), метафора творческого принципа Дикинсон «Всю правду скажи – но скажи ее – вкось…» (восходящая к представлению о поэте как посреднике между людьми и оглушающей истиной в американском трансцендентализме), ее игра с речевыми стилями.
Наряду со словами нормированной речи своего времени Дикинсон обращалась к выразительным возможностям местных слов, разговорных выражений и высокой лексики проповедников. Сходную манеру обыгрывать в поэзии понятия юриспруденции, богословия, естествознания и философии своего времени, наблюдаемую у поэтов «школы Донна», модернизм воспринял в качестве примера того, как можно быть голосом своей эпохи. Это связывали также с особой чувствительностью к поэтическим возможностям английского языка. И в поэзии Дикинсон А.Тейт наблюдал специфический «вербальный конфликт», проистекающий от противостояния глобальных идей перманентности и распада в ее сознании: «слова латинского и греческого происхождения и остро противостоящие им конкретные саксонские элементы» [Tate 1964: 165]. «Это не осознанно найденный прием, – продолжал критик, – а некая чувствительность к языку, которая достигает двух фундаментальных составляющих английского языка и их метафизической зависимости: латынь для идей и саксонский язык для восприятий» [там же]. Значение образа «Silencer» вполне может включать и в это представление о бессознательном подчинении личности автора власти языка. На все его смыслы определения «сладостный» и «мертвый» накладывают декадентский оттенок: воспеваемая любима, потому что мертва. В полную силу звучит тема смерти – неизбежная в разговоре о творчестве Дикинсон: оно одержимо смертью, как и поэзия английского барокко. И эта тема также неразрывно связана у нее с христианским представлением о божественной благодати. Эту связь Крейн отчетливо различал: ему она «внезапно наиболее ясна», «Когда поет, что Вечность владела [каждой грудью] / И мародерствовала ежеминутно в каждой груди» («When singing that Eternity possessed / And plundered momently in every breast»).
Эта развернутая метафора – абсолютно ди-кинсоновская, и она также восходит к образцам английской барочной поэзии, которая буквально развивала представление об изначальной слабости и несовершенстве человека даже перед мыслью о Боге. Скоротечность и мучительность жизни в свете идеи вечности – предмет многих известных стихотворений Дикинсон. Обосновать страдание, принять умом и душой предназначенную Творцом смерть – было частым предметом и благочестивой поэзии «школы Донна», и погребальных элегий в Новой Англии XVII в. И зачастую о религиозном сознании их авторов можно было сказать словами из стихотворения Дикинсон: это вера, которая «сомневается так же горячо, как и верит» («That doubts as fervently as it believes»). Характерное для нее и барочных поэтов-метафизиков тяготение к настоящему, острое переживание красоты и радости земной жизни через постоянную обращенность к смерти импонировали модернизму, о чем свидетельствует и одическая интонация Крейна: «Воистину нет еще цветка, который увял в ваших руках». Воссозданная при этом Дикинсон конфликтная сложность человеческого бытия передана словами: «Страда, которую вы разглядели и постигаете, требует большего, чем остроумие, – чтобы собрать [большего, чем] любовь, – [чтобы] связать» («The harvest you descried and understand / Needs more than wit to gather, love to bind»). Слово «Нarvest» встречается и у Дикинсон в качестве метафоры Апокалипсиса. Так что, хотя главная одержимость Дикинсон не названа ни разу, чувство всеохватного присутствия смерти в посвящении все больше нарастает с приближением к финалу.
В поэзии Дикинсон предчувствие мировой катастрофы вызвало к жизни мотив азартной игры, восходящий к английской и американской литературе XVII в.: обычный поступок – героическое деяние в свете тайны Предопределения. У Крейна рождается образ «примирения отдаленнейшего разума» («Some reconcilement of remotest mind»), созвучный представлению о незаинтересованном поступке, которое из древнеиндийского эпоса привнес в американскую литературу трансцендентализм. Он соединяет лирического героя с Дикинсон – поэта-модерниста, который, смиряя рассудок и личностные пристрастия, вслушивается в сказанное до него в поисках своего слова, с отказавшейся от мира женщиной-поэтом, живущей между верой и безверием, предчувствующей в своей поэзии одержимости и ценности искусства будущей эпохи. Метафора воссоздает некий уровень реальности, на котором прошлое и современность взаимодействуют, где не властна смерть. Это пространство не постигается рационально – не случайно художественная речь полностью смещается от информативности к чистой художественности: модальность до предела усложняется, друг за другом следуют односоставные безличные предложения – стих течет сплошной метафорой как бы независимо от линейного времени и пространства. В нем «Rubyless» – авторский неологизм, лексическая валентность слов нарушена, смысловые границы между ними зыбки, привычные значения и понятия размыты, мелодия слов становится одной из главных организующих сил.
Соприкосновение с жизнью и творчеством любимого поэта изменяет сознание лирического героя – «Оставляет Ормуз лишенным рубинов и Офир вызывающим дрожь. / Другая груда слез в пределах того же холма из хладного праха» («Leaves Ormus rubyless, and Ophir chill. / Else tears heap all within one clay-cold hill»). Ормуз (в древности – богатый портовый город, символ богатства и изобилия в европейской поэзии XVII–XVIII вв., как и вообще Восток) лишается в его глазах своей роскоши, а от богатств Офира (восточная страна, упоминаемая в Библии и знаменитая добыванием золота и драгоценных камней) на него веет холодом. Связь с образной системой кумира не прерывается. Использование ассоциативных значений топонимов (в том числе и «Офир») – очередной характерный прием Дикинсон. Образ «сундуков, нагруженных слезами» («Coffers heaped with Tears») как плата людей за каждый «желанный час» Крейн трансформирует в элемент загадочного пейзажа с чертами кладбища. Он переосмысляет ее метафоры, делая их своими, – так ставшее вечностью прошлое становится настоящим. И хотя автор обращается к образам, метафорам и темам поэзии его Дамы сердца, хотя и развивает стихотворение сходным образом (обращение к ушедшему поэту выводит в измерение вне пространства и времени), его поэтический язык все же принципиально иной. Это обусловлено его представлением о языке современной поэзии и метафизическом языке, в котором он расходился с Э.Паундом или Т.С.Элиотом.
У Крейна сложности и конфликтности современной эпохи отвечал синтез поэтических традиций (в том числе и романтизма); взаимодействие искусств (литературы, живописи, скульптуры и музыки), принципиальная невозможность постигнуть художественную речь до конца и только разумом, а также «сломанная» жанровая форма – непрочное равновесие между завершенностью и бесформенностью. Его восприятие Дикинсон во многом сходится с комментариями из эссеистики тех лет о связи американки с английскими метафизиками, но замечания эти также переосмыслены – главным символом творческого гения «затворницы из Амхерста» он представил молчание. С ним связаны присущая ее поэзии затрудненность художественной речи и читательского восприятия, проистекающая от осознания зазора между человеческим словом и бытием, а также немногословность, разящая убедительность и представление о сакральной природе творчества. Понятие тишины соотносится и с главными одержимостями Дикинсон – с извечными тайнами и загадками устройства мира, человеческой жизни и смерти. Крейн идет за своим кумиром и в выразительности ритма, стремящегося разбить границы строгой формы, и в интонации пылкого преклонения. Но в речи о предельных явлениях он словно сознательно уступает свою волю таинственной игре языка – в финале стих окончательно становится символистским, передающим на уровне ощущения мысль смутную, логически не оформленную. Этот переход утверждает метафизический финал: рождается ощущение заполнения художественного пространства высшим измерением – посвящение завершается «окном в бесконечность» (выражение Ф.Сологуба), через которое Дикинсон все-таки уходит от смерти.
Убедительность же английских метафизиков и Эмили Дикинсон связана с барочным рационализмом. Цельность впечатления и почти чувственное восприятие идей в ее поэзии, которыми восхищались имажисты, часто достигается мета-форами-кончетти, парадоксами и игрой слов, развертыванием мысли по принципу эмблемы. В дальнейшем же, под влиянием идей о метафизической поэзии Т.С.Элиота, эти особенности творчества Дикинсон начали связывать с барочным остроумием. Действительно, хотя в ее работах и встречаются метафоры в символистском духе – темные именно ради темноты и до конца неясного, загадочного смысла, они должны только удивлять своей необычностью, – но и эти образы все же, так или иначе, соотносятся с некой системой мысли. «Устойчивым местом для ссылок» в поэзии Дикинсон А.Тейт совершенно справедливо обозначил доктрину пуританизма. Как и Харт Крейн, Дикинсон сознавала трудность выражения, но уступить свой разум стихии языка не было для нее решением. Каким бы ни был трудным и отвлеченным предмет ее поэтического мышления, она воссоздавала напряжение сознания попытками говорить о нем с помощью категорий и выражений обыденного человеческого опыта (часто представляя непостижимое как загадку, у которой все-таки должен быть ключ), – но не экстатическим погружением в язык ради непосредственного мистического откровения.
Итак, история «реабилитации» Эмили Дикинсон в США в эпоху формирования модернизма тесно связана с активным осмыслением наследия «школы Донна». Оба процесса развивались в полемике с романтической традицией. Если в конце XIX столетия комментаторы, соотносившие творчество Дикинсон с метафизической поэзией, понимали последнюю как стилистический феномен (причудливые метафоры, подчеркнутая условность), то в новейшее время метафизическую поэзию начали воспринимать как органическое единство личности автора и его поэтического языка: в статьях о Дикинсон первой трети XX в. частыми стали слова «опыт» и «остроумие» – «experience» и «wit». На первых порах она казалась литературно-исторической аномалией: художником с сознанием и творческими принципами XVII столетия, но жившим в эпоху расцвета романтизма. Свободно соотносить старую английскую поэзию с современными поэтическими течениями начали под влиянием Э.Паунда и Т.С.Элиота. В качестве поэта неромантического ее последовательно представил А.Тейт. Определяющим принципом ее поэзии он видел осознание автором ограниченности человеческой природы, восходящее к христианству. Оно способствовало пониманию опасности самообольщения эмоциями и соблазна впасть в дидактизм и обращению к традиционной системе общих мест, позволяющей размышлять и говорить обо всем убедительно и кратко.
Если критики романтизма предпочитали не замечать эмоциональность и пылкость Дикинсон, ее увлечение причудливыми образами и игрой в загадки ради загадочности, то Харт Крейн считал, что все это не противоречит главному принципу метафизической поэзии, который он связывал с понятием молчания – осознаваемой и выражаемой трудностью языкового выражения индивидуального опыта жизни. В его посвящении Дикинсон воспроизведение элементов стиля предшественницы вдохновляет автора на собственный вариант метафизической поэзии, в котором очевидно влияние позднего символизма. При этом смена поэтической манеры дается им как жест, чем подчеркивается невозможность говорить о высших явлениях логическим информативным языком. Опыт Крейна по созданию поэтической метафизики органично вписывается в процесс «осмысления метафизической поэзии не столько как исторического явления, сколько как вневременного теоретического понятия, особого вида поэзии» в художественной практике американских поэтов 20–30-х гг. [Половинкина 2011: 321].
Таким образом, опыт рассмотрения Эмили Дикинсон в качестве поэта-метафизика показывает, что метафизическая поэзия в американском литературоведении – явление сложное и неоднозначное. К 30-м гг. XX в. оно уже было поводом не столько для классификации, сколько для размышления о сути поэзии вообще (идет ли речь об авторской манере художника, особенностях его мироощущения или отношения к языку). Важнейшими универсальными идеями о метафизичности поэзии Дикинсон стали представление о дисциплинирующем начале в ее творчестве и осознание мучительно трудного поиска слова в условиях разобщенности человека и мира.
«… SOME RECONCILMENT OF REMOTEST MIND»:
EMILY DICKINSON'S POETRY IN THE AMERICAN ESSAYISTICS
OF THE BEGINNING OF XX CENTURY
Alexandra A. Stankievich
Post-graduate Student of Literature department
Vladimir State University
Список литературы «.Some reconcilment of remotest mind»: поэзия Эмили Дикинсон в американской эссеистике начала XX столетия
- Аникеева Т.Ю. Рецепция поэзии Эмили Дикинсон в России: дис. …канд. филол. наук. Владивосток, 2010. 223 с.
- Виноградова С.Г. Эмили Дикинсон и библейская традиция в новоанглийской поэзии XIX века: дис....канд. филол. наук. Нижний Новгород, 2002. 180 с.
- Гаврилов А.Г. Переводя Эмили Дикинсон (Из дневников)//Дикинсон Э. Стихотворения. Письма/пер. А.Гаврилова. М.: Наука, 2007. С.421-447. (сер. «Литературные памятники»).
- Джимбинов С.Б. Американские поэты и русские переводчики//Американская поэзия в русских переводах. XΙX-XX вв./сост. С.Б.Джимбинов. М.: Радуга, 1983. С.21-42.
- Зверев А.М. Эмили Дикинсон и проблемы позднего американского романтизма//Романтические традиции американской литературы XIX века и современность. М.: Наука, 1982. С.266-309.
- Кашкин И.А. Для читателя-современника. Статьи и исследования. М.: Сов. писатель, 1977. 560 с.
- Костицына М.Б. Мир поэтической личности Эмили Дикинсон: Поэзия и эпистолярии: дис. …канд. филол. наук. Казань, 2004. 208 с.
- Маркова В. Предисловие//Дикинсон Э. Стихотворения/пер. с англ. В.Марковой; предисл. и коммент. В.Марковой. М.: Худож. лит., 1981. 102 с.
- Ортега-и-Гасссет Х. Дегуманизация искусства//Эстетика. Философия культуры/пер. С.Л.Воробьева. М.: Искусство, 1991. C.218-260.
- Осипова Э.Ф. Ральф Эмерсон и американский романтизм. СПб.: С.-Петерб. ун-т, 2001. 192 с.
- Павлычко С.Д. Философская поэзия американского романтизма. Эмерсон. Уитмен. Дикинсон. Киев: Наукова думка, 1988. 227 с.
- Половинкина О.И. Метафизический стиль в истории американской поэзии. Владимир: ВГГУ, 2011. 374 с.
- Сироштан С.В. Романтические традиции в американской лирике 1850-80-х годов: Эмили Дикинсон и Эмили Бронте: дис....канд. филол. наук. СПб., 2004. 216 с.
- Элиот Т.С. Избранное. Т.I-II. Религия, культура литература/пер. с англ. под ред. А.Н.Дорошевича; сост., послесл. и коммент. Т.Н.Красавченко. М.: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2004. 725 с.
- Armstrong M. The Poetry of Emily Dickinson//The Recognition of Emily Dickinson. Selected criticism since 1890/ed. Caesar R. Blake and Carlton F. Wells. Аnn Arbor: The University of Michigan Press, 1964. P.105-109.
- Chamberlain A. The Poems of Emily Dickinson//Boston Commonwealth. 1891.Vol.30. P.7.
- Crane H. The Collected Poems of Hart Crane/ed., intr. by W. Frank. N.Y.: Liveright Publishing Corporation, 1933. Black & Gold Edition, July, 1946. 179 p.
- Higginson T. W. Emily Dickinson's Letters//The Atlantic Monthly. 1891. Vol.68. P.444-56.
- Hutchison P. Further Poems of That Shy Recluse, Emily Dickinson//The New York Times Book Review. 1919. №34. P.3.
- McReed Br. Hart Crane: After His Lights. The University of Alabama Press Tuscaloosa, 2006. 296 p.
- Spenser T. Concentration and Intensity.//The Recognition of Emily Dickinson. Selected criticism since 1890/ed. Caesar R. Blake and Carlton F. Wells. Аnn Arbor: The University of Michigan Press, 1964. P.131-134.
- Taggard G. Introduction//Circumference: Varieties of Metaphysical Verse, 1456-1928/ed. Genevieve Taggard. N.Y.: Covici Friede Publishers, 1929. URL: http://www.english.illinois.edu/maps/poets/s_z/taggard/circum.htm (дата обращения: 27.05.2013).
- Tate A. New England Culture and Emily Dickinson//The Recognition of Emily Dickinson. Selected criticism since 1890/ed. Caesar R. Blake and Carlton F. Wells. Аnn Arbor: The University of Michigan Press, 1964. P.153-167.
- Van Doren M. Nerves Like Tombs//The Nation. 1929. Vol.128. P.348-349.