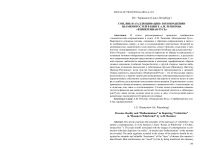Сон, явь и «галлюцинация» в изображении знаменитостей в книге А.М. Ремизова «Взвихренная Русь»
Автор: Чернышов Иван Сергеевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (63), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются принципы изображения «знаменитостей»-современников в книге А.М. Ремизова «Взвихренная Русь». Выявляются основные мотивы, связанные с образами современников в связи с их изображением «наяву», в снах и «галлюцинациях» рассказчика. Основной закономерностью, выявленной в ходе анализа, следует признать смысловое и ценностное «доминирование» «пласта» сновидений (погибшие друзья рассказчика -Блок и Розанов - «спасаются» им, когда он переносит их образы в сновидения), а основным мотивом изображения становится творческая «ревность», в результате чего современники нередко представлены в сниженном, карикатурном виде. С одной стороны, наблюдается карнавализация и некоторая «профанизация» образов «живых классиков» (особенно Андрея Белого), с другой стороны, заметно амбивалентное отношение рассказчика к собственным друзьям (Пришвину, Шестову, Иванову-Разумнику), когда чувство благодарности перемешивается с иронией. Однако «ревность» рассказчика «Взвихренной Руси» - это не бессильная зависть (ресентимент), а энергия творческой конкуренции, побуждающая рассказчика совершенствовать собственное художественное мастерство в попытке встать в один ряд с наиболее заслуженными писателями своего времени. В приложении к статье приводится таблица основных упоминаемых «знаменитостей» с «отнесением» их к «пластам» сна, «яви» и «галлюцинации». Учтены только упоминания знаменитостей по фамилии как наиболее частотной. Хотя именной указатель к «Взвихренной Руси» давно создан, деление имен на «сон» и «явь» и последующий анализ выявленных закономерностей проводится впервые.
А.м. ремизов, «взвихренная русь», серебряный век, сон и явь, карнавализация
Короткий адрес: https://sciup.org/149141349
IDR: 149141349 | DOI: 10.54770/20729316-2022-4-191
Текст научной статьи Сон, явь и «галлюцинация» в изображении знаменитостей в книге А.М. Ремизова «Взвихренная Русь»
«Взвихренная Русь» A.M. Ремизова - книга, представляющая значительный интерес для исследователя по многим причинам: это, разумеется, интереснейший документ эпохи; интересно определить место книги Ремизова в системе жанров, интересно рассмотреть ее композицию, проанализировать, «как сделана» «Взвихренная Русь», тем более что «сам Ремизов хорошо осознавал, что именно в этой книге ему суждено было высказаться о себе и о пережитом его родиной в полный голос» [Лавров 2000, 544].
Однако тема предлагаемого исследования будет более узкой: мы рассмотрим корпус упоминаний «знаменитостей»-современников Ремизова и попробуем выявить закономерности в их изображении в связи с принадлежностью к одному из двух противоположных, но одинаково значимых для автора «Взвихренной Руси» «полюсов»: сна и яви.
Энтузиаст-исследователь «литературных» снов, «гипнолог» [Цивьян 1993, 199] и сам великий сновидец, Ремизов бережно фиксирует собственные сны, нередко снабжая их рисунками. Сновидение, «предсонье», принадлежность к «сонному царству» играют для Ремизова большую роль. «Сны Ремизова - способ подправить действительность» [Чалмаев 1990, 24], «сон входит в литературу как особый жанр, во сне проявляется литературный контекст... литература и сновидение становятся взаимозависимы» [Нагорная 2000, 259].
Однако, на наш взгляд, сны во «Взвихренной Руси» «включаются в изображение реальной действительности» не только «с целью показать ее абсурдность» [Михайлов 1994, 97], но и чтобы тем самым «зафиксировать» аксиологическую иерархию: сон выше яви, «сновидение... подчинялось в ремизовской аксиологической системе беспредельно созидающей воле» [Обатнина 2008, 170].
Сам Ремизов пишет о своей авторской аксиологии, о «главенстве» сна над явью, следующее: «Сновидения - дар вечной молодости... Мир сно- видений, как и мир сказок, запечатан. [Те, кто] не видят сны и не любят сказок, их зрение ограничено - только что около своего носа, а глубже “не понимаем”. Какая скука ползет от их слов, а все их движения грузны» [Ремизов 2002, 430-431].
Как результат применения этого подхода, во «Взвихренной Руси» некоторым современникам рассказчика «сонное царство» вообще недоступно (Ленин и вообще почти все политики), некоторые там предстают в карикатурном виде (большинство писателей-современников) и лишь немногие сновидением «спасаются» (Блок, Розанов).
Череда упоминаний известных современников во «Взвихренной Руси» такова, что у читателя возникает впечатление, будто Ремизов принадлежал к первому ряду знаменитостей описываемого времени, и здесь видится нескрываемое, впрочем, стремление писателя обозначить свое место как равного наряду с более популярными авторами вроде Горького или Бунина, которого Ремизов, мягко говоря, недолюбливал.
Поэтому немаловажно, как в художественном тексте изображаются реальные люди, коллеги / конкуренты-литераторы, в каком виде они предстают во «Взвихренной Руси», и в каком из «пластов» это происходит: «наяву» или «во сне», тем более что «эстетическая установка А. Ремизова. .. на парадоксальное смешение виртуальной и реальной действительности очевидна» [Алексеева 2017, 133], и в этом смысле «Взвихренная Русь» отличается от других «гипнологических» произведений Ремизова, в частности, от «Огня вещей» («Сны и предсонья»), где сон и явь достаточно четко разграничены, а в фокусе рассказчика представлены главным образом «литературные» сны авторов XIX в., а отзывы об авторах-современниках (негативные - об Андрее Белом и Маяковском и позитивные - о Розанове и Пришвине) лаконичны и служат просто в качестве примеров или контрпримеров к снам писателей XIX в.
Отличие упоминаний современников во «Взвихренной Руси» от «Сонника» («Мартын Задека») в том, что, хотя там перечислены те же лица (Блок, Шестов, Розанов, Пришвин, Иванов-Разумник и др.), «Сонник» выполнен не в технике монтажа, где сонь, явь и «видения» переплетены в одном «вихре», а просто в качестве «перечня» снов, пусть к некоторым снам и дан автокомментарий, по какому «поводу» снился тот или иной современник.
Любопытно, что ремизовская «сонная» аксиология работает и в «За-деке»: Разумник, отношение к которому во «Взвихренной Руси» скорее противоречивое, в «Задеке» «спасается» в «сонное царство» таким же образом, как Блок или Розанов во «Взвихренной Руси».
Другой пример связи «Задеки» и «Взвихренной Руси» - отсутствие упоминаний в соннике персоналий, фигурирующих во «Взвихренной Руси» только «наяву», т.е. тем, кому «сонное царство» недоступно во «Взвихренной Руси», оно недоступно и в других произведениях Ремизова.
Но прежде чем перейти к рассмотрению образов конкретных современников, приведем некоторые общие данные.
Во «Взвихренной Руси» упоминается более 70 фамилий известных современников - не только литераторы, но и художники (Петров-Водкин), философы (Шестов, Бердяев), знаменитости из мира музыки (Прокофьев, Шаляпин), театра (Немирович-Данченко, Мейерхольд) а также политики (Ленин, Керенский, Троцкий и др.) - причем в «вихре» повествования сознательно перемешиваются личные знакомые Ремизова и просто знаменитости тех лет; «плотность» упоминаний такова, что рассказчик действительно будто волчком «вертится» среди (вокруг) них.
Категория «яви» для Ремизова менее значима: лица, фигурирующие только «наяву» и отсутствующие в снах, удосуживаются «попутных» упоминаний - Распутин, кайзер Вильгельм, Засулич, Кшесинская, Урицкий мелькают во «Взвихренной Руси» практически незаметно.
Исключительно к полюсу «яви» принадлежит и большинство политиков: в снах не упоминаются Ленин, Милюков, Корнилов, Колчак, Деникин, Троцкий и Юденич.
Во всех этих случаях Ремизов намекает, что эти люди обитают только в материалистической «яви», которая «экзистенциально противоположна» [Обатнина 2021, 161] высшему, сонному царству, к которому эти политики не могут быть причастны.
Сюда же следует отнести и также отсутствующих в снах рассказчика Леонида Андреева - о нем упоминается ради контраста, что у Андреева полно писем от читателей, а Ремизов, который только «отпугивал читателей» [Современные записки 2014, 477], ими не избалован - а также Короленко, сама фамилия которого используется Ремизовым в целях создания комического эффекта.
Короленко фигурирует только в одном эпизоде, все его упоминания исчерпываются шестью страницами, однако на этих шести страницах Короленко упомянут по фамилии 32 раза - только два «героя» «Взвихренной Руси» упоминаются чаще, но они как бы проходят сквозь весь текст, а не «сконцентрированы» в одном шестистраничном эпизоде.
Вероятно, Короленко, с которым Ремизов «только здоровался», нужен был в этом эпизоде также для контраста: ярко показав «настоящую знаменитость», 32 раза упомянув ее, как бы имея в виду, что Ремизов только «крутится» возле знаменитости, что он «ненастоящий писатель». Так или иначе, эпизод с Короленко демонстрирует читателю своеобразие юмора Ремизова.
Еще один современник, отсутствующий в «пласте» снов «Взвихренной Руси», но фигурирующий наяву, - это Гумилев. В сущности, с ним в тексте связаны две сцены: встреча с Ремизовым на улице и горький фрагмент о его расстреле. Отсутствие Гумилева во снах Ремизова, по-видимому, иллюстрирует восприятие поэта рассказчиком: Гумилев ассоциируется исключительно с реальностью, а не с «миром грез».
Ряд знаменитостей, напротив, фигурирует только в снах рассказчика: некоторые присутствуют лишь «на периферии» снов, те. упоминаются или действуют так, что дистанция от рассказчика до них смазывается - становится непонятно, изображается ли близкий знакомый Ремизова, или известный человек, выступление (выставку) которого рассказчик посещает как простой слушатель (это относится к упоминаниям, например, Рахманинова и Кустодиева).
Весьма характерно, что Ремизову только снится Николай II - как фигура, очевидно соотносимая с навсегда потерянным прошлым.
Нередко в снах рассказчика обыгрываются анекдоты или стереотипы о тех или иных известных людях - некоторые знаменитости слишком соответствуют своему «публичному образу»: Вас. Каменский во сне Ремизова «проскакал на пожарной кишке», З.Н. Гиппиус беседует с ним о вопросах веры, Клюев ходит «в огромной соломенной шляпе, поддевке, но без креста» и говорит о «самопишущем пере».
Подчеркнуто комичны сны про Рериха (акцентируется его любовь к сладкому), Аверченко (Аверченко отрицает, что он - это он, «держит парикмахерскую и аукцион»), Есенин «не платит за свет» - все эти сны фактически смешиваются с анекдотами.
Символизмом проникнуты два сна о Пильняке («весь блестит», «ноги серебряные, кончик носа серебряный», «ест черный хлеб»), хорошо читаются аллегории в снах об А.Н. Толстом (он собирается в церковь; Ремизов дарит ему колпак - как бы от учителя - ученику, который оказывается неблагодарным) и Б.Л. Пастернаке («чинит сети в углу»).
Сны о более успешных Бунине, Куприне и Б.К. Зайцеве объединяет мотив ревности: Куприна и Бунина «несут на пурпурах», Зайцев «идет весь в серебре, с шитыми львами, плюет налево-направо кожурой от семечек».
Однако более 20 «героев» «Взвихренной Руси» представлены как в снах рассказчика, так и в «реальных» событиях. Часть из них рассказчик вначале видит во сне, а затем они «проявляются», но некоторые, наоборот, из «яви» проникают в сон: Н.А. Бердяев, близкое общение с которым относится к уже достаточно отдаленному для Ремизова прошлому, наяву «фигурирует» лишь как цитируемый, упоминаемый автор, которого «заваливают любовными письмами», но, проникая из упоминаний наяву в сны рассказчика, Бердяев вновь становится близким: он собирается в церковь или обедает с рассказчиком на Курском вокзале. Так дистанция между Бердяевым и Ремизовым, выросшая наяву, сокращается в снах.
Подобным же образом сокращается дистанция между Ремизовым и Маяковским: если наяву о нем только упоминается, то во сне уже на окнах Маяковского «пальцем написано» о дне рождения Ремизова.
Та же функция сокращения дистанции заметна в снах о Керенском -пожалуй, единственном политике, в полной мере причастном «сонному царству» у Ремизова. Однако дистанция сокращается вместе с карикатурным снижением образа политика: толки о Керенском «наяву» трансформируются в снах в травестирование «брезгливо оправляется в монашеском платье» (см. популярный миф о бегстве Керенского в женской одежде), а до этого Керенский заходит к рассказчику в столовую и заявляет, что «сможет дудочку-кукушку». Исследователи проводят параллели между
Керенским как он изображен во «Взвихренной Руси» и Хлестаковым, отмечая «тончайшую иронию» Ремизова применительно к политику [Чал-маев 1990, 16].
Схожим образом снижается «публичный образ» Михаила Кузмина: наяву рассказчик вспоминает, как Кузмина «чествовали» в «Вопросах жизни», а во сне Кузмин предстает поедающим редис и сокрушающимся, что ему «нельзя поступать в школу прапорщиков».
В.Я. Брюсов проходит из яви в сон в роли, сходной с Буниным: наяву рассказчик беседует о Брюсове с Блоком, и затем во сне Брюсов то выступает в роли распорядителя в училище, то его «тащат на анисах» как представителя литературной элиты - налицо тот же мотив ревности.
Петров-Водкин, Прокофьев или Шаляпин проникают из яви в сны в качестве представителей своих профессий: наяву Ремизов смотрит картину - во сне Петров-Водкин говорит с ним о живописи; наяву Ремизов слушает игру Прокофьева на рояле - во сне Прокофьев разворачивает ноты. Здесь сны просто отражают реальность, не видоизменяя ее.
Переход из яви в сон у друга Ремизова В.В. Розанова пересекается во времени повествования с его смертью: Розанов, «собирающий окурки» наяву и умирающий от голода, словно спасается Ремизовым, заботливо перемещающим его в сонное царство, где тот «спит под игрушками» рассказчика, и они могут, как раньше, беседовать «об индейцах» и о Николае II.
Подобным образом, но еще более сочувственно и подробно, через всю «Взвихренную Русь» переходит из яви в смерть и сон А.А. Блок. В тексте Блок упоминается 47 раз, причем чаще всего упоминается об их беседах наяву: как при встречах, так и (5 раз) по телефону. Аллегорично изображение Блока во сне: поэт передвигается на костылях, меняется калошами с рассказчиком, ходит в «красном китайском халате». Как и в случае с Розановым, при переходе Блока в «сонное царство» звучит важный для Ремизова мотив детства: если «спасенный в сон» Розанов спит под игрушками, то Блок «свертывает бумажные кораблики».
Наконец, наиболее радикальному превращению «во сне» подвергается Тиняков: наяву он кричит «Да здравствует Вильгельм», а во сне рассказчик отрубает ему голову - чуть ли не единственный случай, когда рассказчик применяет насилие.
Переход из сна в явь сопряжен с теми же мотивами: ревности - Мережковский во сне фотографирует рассказчика, который затем наяву трижды упоминает, что Мережковский получает от советской власти паек (в отличие от Ремизова); Чуковский во сне несет «70 тысяч процентных бумаг», а наяву оказывается среди авторов, которым удалось издать «избранное» благодаря протекции Горького; Сологуб (особенно ревностно к которому Ремизов относился еще со времен конкуренции его «Пруда» с вышедшим одновременно «Мелким бесом»), наконец, и оказывается среди авторов, которым удалось издать «избранное» благодаря протекции Горького, и получает от советской власти паек (об этом упоминается дважды), наконец, 7(!) раз упоминается, что «совдеп его выселил», что звучит в устах рас- сказчика нехарактерно злорадно-мстительно - в то же время во сне Сологуб смирно сидит в столовой рассказчика и ничего фактически не делает.
Переход из сна в явь у друзей Ремизова, например, у Л.И. Шестова, характеризуются настороженностью и тревогой: во сне Шестов то хочет «кататься на Ремизове», что явно читается как аллегория («сел на шею»), то его «под руки ведут арапы», что сближает его со знаменитостями-неприятелями вроде Бунина. При этом наяву утверждается обратное: Шестов предстает искренним другом, который «ищет читателей» Ремизову, а Ремизов сам пускает шуточный слух об алкоголизме Шестова: вероятно, налицо обратная трансформация - тот, над кем рассказчик шутит и кого несколько принижает, во сне уже сам возвышается над рассказчиком.
Горький фигурирует во «Взвихренной Руси» как олицетворение фигуры «заступника», защитника, помощника, из яви эта функция переходит и в сны. Наяву он «заступается за Дворцовую площадь», помогает издаваться коллегам (в том числе Ремизову), однако ему словно в укор ставится, что он не заступился за Гумилева и не предпринял ничего для освобождения членов Обезвелволпала (в том числе Ремизова), хотя знал об их аресте. Во сне Горький то плачет, то поет веселые песни, то «ежит губы», то рассуждает о педагогике, то «переминается» - последний образ выступает как наиболее характерный. В целом, образ Горького во «Взвихренной Руси» неоднозначен, положительное сочетается с отрицательным, хотя налицо и неоправданные надежды, и стремление к сокращению дистанции, которого не происходит даже во сне.
Наконец, помимо сна и яви во «Взвихренной Руси» есть пласт, который можно назвать «галлюцинацией» или, по Достоевскому, «померещилось» (сам Ремизов называет этот пласт «видениями» [Ремизов 2000, 480]): мерещится рассказчику не так часто, и в этом пласте представлено только 5 имен - в сне, яви и «галлюцинации» фигурируют Замятин, Иванов-Разумник, Андрей Белый, Шишков и Пришвин.
В ремизовской аксиологии «видение» занимает промежуточное положение между профанной явью и высшей сферой снов: «галлюцинация» случается наяву, однако она как бы «застит» явь, сама становясь на первый план и оттесняя собой действительность. В то же время «галлюцинация» принципиально отличается от сна: сон не контролируется рассказчиком, а «посылается» уже готовым, его можно только запомнить или забыть, а «видение» конструируется отчасти при помощи сознания, что снижает его ценность для Ремизова.
Но перейдем к обзору современников, упомянутых в «видениях» («галлюцинациях»). Образы Шишкова и Пришвина роднит функция «кормильца», причем в подтексте она напрямую связывается с сотрудничеством с советской властью. И если Шишков упоминается только б раз (в яви: обещал и принес муку, упоминается среди тех, кому Горький помог с изданием «Избранного»; во сне: рассказчик сравнивает Шишкова с Андреем Белым; в «галлюцинации» Шишков «горюет простуженный»), то Пришвин упоминается в тексте 45 раз (чаще него только Блок).
Если для Розанова Пришвин был «мальчишкой», Ремизов, по-видимому, не относился к Пришвину свысока: со времен «дела о плагиате», когда молодой Пришвин печатно заступился за Ремизова, Алексей Михайлович испытывал к нему глубокую благодарность. Во «Взвихренной Руси» «наяву» Пришвин назван «ученым», «доктором», «бывалым», 4 раза Пришвин приносит Ремизовым хлеб и однажды - пряники. Однако ряд упоминаний Пришвина объясняет его удачи близостью к советскому режиму, характерны фразы вроде «Пришвин прет по грязи», он «в ходу» (так рассказчик обычно характеризует политиков), его «не узнать». В «галлюцинации» Пришвин упоминается сидящим с электрическим самоваром, что тоже можно считать маркером материального благополучия. Наконец, в снах рассказчика Пришвин «глотает мост», «хозяйка» «продает его сюртук», Пришвин «обижается, будто его лишили чести», он «ходит с трубой», «говорит, что он предсказатель погоды» и «просит музыкантов сыграть “Интернационал”» - очевидно шаржирование образа Пришвина в снах, окарикатуривание его связей с советским правительством, комическое снижение его успехов. Последний сон о Пришвине словно подводит итог: Ремизов обвиняет Пришвина на суде. Очевидно, в снах о Пришвине переданы сложные чувства благодарности, но к человеку, который «в ходу» у советской власти, т.е. брать от него хлеб для рассказчика - нечто в то же время постыдное, отчего и возникает шаржирование. Кроме того, нельзя и отметать характерный для «Взвихренной Руси» мотив ревности к более успешному коллеге.
Противоречив и образ Иванова-Разумника. Пласт «яви» в случае с Разумником скуден: упоминание о членстве в «Обезвелволпале», совместном пребывании под арестом, встречей Пасхи в общем кругу. Зато в снах их масштабы сообразно увеличиваются - и рассказчик с Разумником вместе живут (по соседству) в Зимнем дворце, вместе едут в Париж и Рим. Наконец, в последнем сне Разумник упрекает рассказчика, что у того «всегда были подленькие мысли». В «галлюцинации» Разумник предстает идущим с «пудовым портфелем» - в результате здесь также присутствует мотивы сокращения дистанции и ревности. В изображении Иванова-Разумника во «Взвихренной Руси» исследователи также видят черты «хлестаковщины» [Чалмаев 1990, 16].
Схематично, но стройно выглядит перемещение в «явь» Е. Замятина: из сна, в котором он карикатурно-комично «уходит по нужде с накрашенными губами» - в «галлюцинацию», где он «только что вернулся из Англии» - и, наконец, в явь, где он дарит рассказчику мундштук.
Завершить наш обзор хотелось бы наиболее эпатажной фигурой «Взвихренной Руси» - Андреем Белым. Белый - единственный персонаж книги, который изначально появляется в «галлюцинации»: он привиделся рассказчику на картине Петрова-Водкина. Затем Белый перемещается в пространство снов, но сны с его участием максимально одиозны: то Белый «голый кружится», то «сидит на камушке в немецкой форме с эполетами», затем «ломает себе хвостик» -ив следующем сне рассказчик повторяет этот «сонный факт»: «у Белого отпал хвостик». Наконец, в последнем сне с участием Белого поэт уподоблен мыши.
Из снов Белый «материализуется» в явь, где рассказчик утверждает, что Белый «уже не человек вовсе»; он «мля газообразная с седенькими пейсиками».
Такое обилие негативно окрашенных образов свидетельствует о наиболее остром соперничестве именно с Белым. В самом деле, только он мог бы потягаться с Ремизовым за звание наиболее яркого стилиста своего времени. Поэтому Белый, а не, скажем, другой соперник - Сологуб - изображен столь однозначно карикатурно.
Обобщив сцены, «увиденные» «галлюцинирующим» рассказчиком, мы можем сделать вывод, что они действительно сконструированы при большей степени вовлеченности сознания: видения, что Шишков горюет потому, что простужен, что Пришвин сидит у самовара, что Разумник идет с портфелем, что Замятин приехал из Англии, более очевидны и логичны (такие картинки легко можно представить и наяву), чем однозначно маркируемые как фантастические сны об Андрее Белом в обличии мыши или «мутанте»-Пильняке.
Иными словами, «галлюцинация» во «Взвихренной Руси» - это краткая, промежуточная, переходная форма отображения современника, которая гораздо ближе к яви и представляет собой достаточно реалистическое представление о собеседнике, в отличие от фантастических снов.
Подводя итоги нашего обзора, хочется вновь подчеркнуть некоторые выявленные закономерности. Разделение современников по принадлежности к «сонному царству» выражает в том числе их оценку рассказчиком: те, кто упоминается только наяву, воспринимаются ими как поверхностные фигуры, те, кто причастен снам, сами в свою очередь наделяются «визионерскими» функциями, получают возможность «альтернативного», «виртуального» существования, становятся достойными «спасения» в сознании сновидца-рассказчика. Добавление пласта «галлюцинации» призвано подчеркнуть шаткость, изменчивость, нетождественность яви самой себе, ее проницаемость для изменений силой воображения рассказчика; современники, фигурирующие в «галлюцинациях», тем самым оказываются наделены откровенно фантастическими чертами.
Вместе с тем «перетекание» из сна в явь и обратно характерно именно для «Взвихренной Руси»: «сонники» посвящены только снам, «Огонь вещей» («Сны и предсонья») - анализу литературных снов предшественников Ремизова; во «Взвихренной Руси» эта изменчивость работает на утрирование «вихря» событий, захватившего Россию в описываемое время.
Большинство персонажей, упомянутых во «Взвихренной Руси», может объединить мотив зависти / ревности рассказчика к ним как к более успешным на литературном и житейском поприще. Часто во «Взвихренной Руси» рассказчик сокращает дистанцию между собой и изображаемым современником, причем фактическое обоснование обычно не требуется, это делается произвольно. Знаменитости часто подвергаются карикатурному изображению, шаржированию, комическому снижению образов. Сны и «галлюцинации» служат проводниками вышеперечисленных мотивов и органично вплетаются в сложный, неоднородный монтаж «Взвихренной Руси».
Однако «Взвихренная Русь» - ни в коем случае не памфлет и не пасквиль на «успешных знаменитостей». Энергия творческой конкуренции питает рассказчика, «скептика и ирониста» [Чалмаев 1990, 17], побуждает его совершенствовать собственный стиль, прибегает к более изощренным формам, искать более удачную лексику и синтаксис для выражения мыслей, стремиться к подлинному обновлению русского языка. Именно это стремление, пусть и подстегиваемое конкуренций, позволило Ремизову создать множество вдохновенных произведений, одно из центральных мест в корпусе которых по праву занимает «Взвихренная Русь».
ПРИЛОЖЕНИЕ
Перечень основных упоминаемых «знаменитостей» во «Взвихренной Руси» (страницы приведены по изданию: Ремизов А.М. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 5. Взвихренная Русь. М.: Русская книга, 2000. 690 с.):
-
1. БлокА.А. 47 упоминаний (С. 58, 69, 72, 92, 111, 134, 173, 174, 177, 193, 198, 209, 240, 246, 255, 263, 338, 380, 384, 386, 388-390); «полюса»: явь - сон; мотивы: сочувствие, жалость, детство;
-
2. Пришвин М.М. 45 упоминаний (С. 28, 32, 34, 45-47, 51, 53, 54, 57, 58, 63, 78, 82, 95, 98,109, 111,160,191,193, 259); «полюса»: явь - сон - «галлюцинация»; мотивы: благодарность, но и ревность; то почтительное, то карикатурное отображение;
-
3. Короленко ВТ. 32 упоминания (С. 144-149); «полюс»: явь; мотивы: ревность, карикатурное отображение;
-
4. Розанов В.В. 24 упоминания (С. 32, 70, 73, 75, 84, 105, 112, ИЗ, 165, 177, 227, 230, 388, 390); «полюса»: явь - сон; мотивы: сочувствие, жалость, детство;
-
5. Петров-Водкин К.С. 21 упоминание (С. 26, 94, 134, 193, 209, 211, 213-217, 219-221); «полюса»: явь - сон; мотивы: нет (нейтральное отображение);
-
6. Горький М. 18 упоминаний (С. 55, 72, 87, 100, 101, 114, 157, 193, 209, 285, 338, 382, 383); «полюса»: явь - сон; мотивы: сокращение дистанции, «выборочный заступник»;
-
7. Ленин В.И. 16 упоминаний (С. 59, 66-68, 74, 79, 286, 304, 305, 357); «полюс»: явь; мотивы: нет (нейтральное отображение);
-
8. Белый А. 15 упоминаний (С. 26, 82-85, 93, 114, 252, 255, 388, 389); «полюса»: «галлюцинация» - сон - явь; мотивы: ревность, карикатурное отображение;
-
9. Шестов Л.И. 15 упоминаний (С. 48, 52, 85,116-118,128,129, 338, 388); «полюса»: сон - явь; мотивы: благодарность, но и настороженность;
-
10. Иванов-Разумник Р.В. 15 упоминаний (С. 58, 117, 123, 134, 152, 160, 176, 177, 209, 246, 3 87); «полюса»: явь - сон - «галлюцинация»; мотивы: ревность, сокращение дистанции;
И. Керенский А.Ф. 15 упоминаний (С. 45, 46, 123, 125, 151-153, 174, 300);
«полюса»: явь - сон; мотивы: сокращение дистанции, карикатурное отображение.
Список литературы Сон, явь и «галлюцинация» в изображении знаменитостей в книге А.М. Ремизова «Взвихренная Русь»
- Алексеева Н.В. «Взвихренная Русь» А. Ремизова: игровое пространство и формы его воплощения // Уральский филологический вестник. 2017. № 4. С. 122–137.
- Лавров А.В. «Взвихренная Русь» Алексея Ремизова: символистский роман-коллаж // Ремизов А.М. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 5. Взвихренная Русь. М.: Русская книга, 2000. С. 544–558.
- Михайлов А.И. О сновидениях в творчестве Алексея Ремизова и Николая Клюева // Алексей Ремизов. Исследования и материалы. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994. С. 89–104.
- Нагорная Н.А. Виртуальная реальность сновидения в творчестве А.М. Ремизова. Барнаул: БГПУ, 2000. 150 c.
- Обатнина Е.Р. А.М. Ремизов в борьбе за «сон»: материалы к творческой биографии // Русская литература. 2021. № 1. С. 161–169.
- Обатнина Е.Р. А.М. Ремизов. Личность и творческие практики писателя. М.: НЛО, 2008. 296 с.
- Ремизов А.М. Взвихренная Русь // Ремизов А.М. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 5. М.: Русская книга, 2002. 690 с.
- Ремизов А.М. Ахру // Ремизов А.М. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 7. М.: Русская книга, 2002. 640 с.
- «Современные записки». Париж, 1920-1940. Из архива редакции: в 4 т. / под ред. О. Коростелева и М. Шрубы. Т. 4. М.: НЛО, 2014. 1152 с.
- Цивьян Т. О ремизовской гипнологии и гипнографии // Серебряный век в России. М.: Радикс, 1993. С. 199–238.
- Чалмаев В.А. Лицом к лицу с историей // Ремизов А.М. Взвихренная Русь. М.: Советская Россия, 1990. С. 3–28.