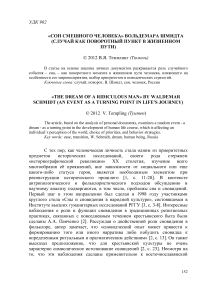«Сон смешного человека» Вольдемара Шмидта (случай как поворотный пункт в жизненном пути)
Автор: Темплинг Владимир Яковлевич
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Рубрика: Социально-исторические реконструкции
Статья в выпуске: 2 (3), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе анализа личных документов раскрывается роль случайного события - сна, - как поворотного момента в жизненном пути человека, влияющего на особенности его мировосприятия, выбор приоритетов и поведенческих стратегий.
Случай, поворот, в. шмидт, сон, человек, Россия
Короткий адрес: https://sciup.org/14238926
IDR: 14238926 | УДК: 902
Текст научной статьи «Сон смешного человека» Вольдемара Шмидта (случай как поворотный пункт в жизненном пути)
С тех пор, как человеческая личность стала одним из приоритетных предметов исторических исследований, своего рода стержнем «историографической революции» ХХ столетия, изучение всего многообразия её проявлений, вне зависимости от социального или еще какого-либо статуса героя, является необходимым элементом при реконструкции исторического прошлого [1, с. 11-20]. В контексте антропологического и фольклористического подходов обсуждению и научному анализу подвергаются, в том числе, проблемы сна и сновидений. Первый шаг в этом направлении был сделан в 1998 году участниками круглого стола «Сны и сновидения в народной культуре», состоявшемся в Институте высших гуманитарных исследований РГГУ [3, с. 3-8]. Интересные наблюдения о роли и функции сновидения в традиционных религиозных практиках, связанных с повседневным течением крестьянского быта были сделаны А.А. Панченко [2]. Рассуждая о двойственной роли сновидения в фольклоре, автор замечает, что «сновидческий опыт может привести к формированию того или иного нарратива либо побудить сновидца к определенным ритуальным и прагматическим действиям» [2, с. 13]. Он также высказал предположение, что для крестьянской культуры не очень характерно символическое истолкование сновидений [2, с. 23]. Несмотря на то, что эти наблюдения сделаны применительно к восточнославянской традиционной религиозной практике, они, по-видимому, имеют универсальное значение.
В известном, а, по мнению некоторых исследователей и программном для всего творчества писателя, рассказе Ф.М. Достоевского случайная встреча главного героя в преддверии судьбоносного решения о самоубийстве спровоцировала сон, впечатление от которого кардинально изменяет его внутреннее мироощущение и, надо полагать, весь последующий строй жизни. Путь от отрицания себя в этой жизни к троекратно усиленному девизу «О, теперь жизни и жизни!... Да, жизнь, и – проповедь!» уложился в мгновения одного сна.
Личное знакомство с «истиной» не только меняет жизнь героя рассказа, но и придает ему колоссальные силы преодолевать отчуждение и насмешки окружающего мира, пребывать в нем непонятым, неприкаянным, «смешным» и, одновременно, счастливым, щедрым, открытым, доступным, любящим. Истории в обилии знакомы такие сюжеты. И, тем не менее, новый подобный случай всякий раз вызывает неподдельный интерес, прежде всего, своей уникальностью. Сюжет известен, но линии и детали его развития, насыщенность событиями, реакциями, мыслями, эмоциями, поведенческими стратегиями всякий раз создают столь неповторимую картину, что мысль об избитости сюжета раз появившись при первом знакомстве, тотчас улетучивается по мере познания деталей и обстоятельств.
Статья посвящена характеристике жизненного пути и творческого наследия, частично опубликованного в 2005-2006 годах, оригинального мыслителя, неутомимого и бесстрашного борца против «научного атеизма» Вольдемара Александровича Шмидта [3].
Судьба героя нашего повествования укладывается в сюжетную канву рассказа Достоевского и одновременно являет миру совершенно удивительного, смелого, нравственного, критически мыслящего, рассуждающего и творческого человека, с необычайно богатой внутренней духовной жизнью. Собственно же жизненный путь Вольдемара Александровича прост и незатейлив, даже можно сказать, удручающе типичен для немца, родившегося еще в непонятно какой России образца весны 1918 года, раздираемой Гражданской войной и пережившего СССР: Гражданская война, несправедливый расстрел отца красными, голод, коллективизация, учеба в неполной средней школе, рабфак, недолгая учеба в мединституте (2 курса), работа в школе, затем депортация в Сибирь, принудительная работа в трудармии и долгая жизнь в месте вынужденного поселения. Скончался Вольдемар Александрович в 2006 году в Ишиме. Таков краткий абрис жизненного пути, каких тысячи и десятки тысяч. Нет в нем ни громких побед, ни славы, ни высоких наград, ни значительных материальных достижений. Но было одно событие, которое предопределило качество внутренней жизни нашего героя, его стратегию поведения, открытую и независимую позицию вероисповедания и, в некоторой степени, условия материального бытия. Это событие – сон.
К сожалению, о содержании сна в своих записках автор ничего не говорит, равно как не оставил он и какого-либо целостного повествования о своей жизни, кроме краткой двухстраничной автобиографии. Получить представление о его жизненном пути можно лишь по биографическим вставкам, вкрапленным в тексты писем и размышлений по поводу различных публикаций. Несомненным является факт – сон для Вольдемара Александровича стал поворотным пунктом в его жизни. Он постоянно акцентирует внимание на его последствиях, точнее говоря, на одном, но фундаментальном выводе, который привел к перевороту в его мировоззрении. Во сне он приобрел «личное знание» о существовании потустороннего мира, и о вмешательстве сил этого мира в «психическую жизнь» человека. Это знание он назвал «чрезвычайной истиной». Более того, к последствиям сна относится и установление непосредственного «слухоречевого» контакта визионера с силами потустороннего мира, который длился несколько десятилетий. Вхождение в «контакт» не было быстрым, добровольным и безболезненным. Прошло несколько нелегких лет, прежде чем, визионер, по его словам, «признал себя пораженным» и «сдался», и из атеиста с «сугубо земным мировоззрением», превратился в человека «верующего в Бога Всевышнего по-христиански». Годы эти были нелегкими во всех смыслах и отношениях. Сон приснился в 1945 году. В это время Вольдемар Александрович находился еще в трудармии, на печально знаменитом строительстве Богословского алюминиевого завода в Краснотуринске, куда был мобилизован в начале 1942 года. А результаты сотрудничества и напряженной внутренней работы появляются только во второй половине 50-х годов. Самые же первые духовные опыты, скупые сведения о них встречаются в воспоминаниях, были изъяты еще там, в лагере. Дома же нужно было заниматься обустройством, кормить семью, непрестанно прираставшую новыми членами.
Ошеломляющие впечатления от этого сновидения привели к структурным изменениям личности визионера: атеист, получивший непосредственный, личный опыт и знание о существовании потустороннего мира, становится убежденным верующим человеком, воплощающим в своем образе жизни высокие нравственные нормы, заложенные в священном писании. Более того, главная цель жизни, которая, по словам Шмидта, была внушена ему извне («потусторонними силами»), хоть и не оттеснила совсем на второй план насущные заботы о пропитании и о прочем материальном благополучии, личной безопасности и спокойном существовании семьи, однако ж серьезно их потеснила. В ценностной иерархии нашего героя они стали занимать подчиненные позиции по отношению к главной задаче жизни, которая заключалась в том, что Шмидт, как человек познавший истину, считал необходимым свидетельствовать об этом и добиваться от властей и научной общественности признания факта невозможности существования такого явления, как «научный атеизм».
В задачи статьи не входит анализ возможных медицинских аспектов произошедших личностных изменений и творческого наследия визионера, сохранившегося в виде трактатов и литературных произведений преимущественно стихотворного жанра. Для целей настоящей статьи важно отметить главное, что случайное событие – сон и последовавшие за ним коллизии, – повлекло за собой не только изменение мировоззренческих представлений, но оказало влияние и на характер принимаемых решений и действий. В контексте данного тезиса лишь отметим, что Шмитд не навязывает свою точку зрения. Его позиция предельно четка и ясна: на основании своего исключительно личного опыта он получил знание истины, которую невозможно доказать научными методами, но возможно лишь принимать и верить, а это означает, что всякое убеждение и вера не могут быть научными (в том числе это утверждение он относил и к себе). Но, поскольку доказать научно существование потустороннего мира, бога и непосредственных контактов с инобытием невозможно, то, по мысли Шмитда, невозможно доказать и обратное, что бога нет, а значит и оголтелая пропаганда научного атеизма является фикцией. Против самого атеизма он не выступает, считая его точно таким же убеждением или верой, которые имеют право на существование. Вот одно из характерных его рассуждений: «Верующие в бога и божию милость, да и вообще принимающие на веру, что есть мир потусторонний, доказывать свои вероутверждения не обязаны. Ученые же атеисты, противопоставляя веровоззрениям свое богоотрицющее убеждение от имени науки, скорее всего, игнорировали моральное право на свободу совести каждого человека, не придавая значения тому, что ссылающиеся на авторитет науки должны подтвердить свои утверждения их доказанностью даже при личном знании истины объекта мышления… То, что знаю, то знаю – мир потусторонний есть и силы его не безучастны в жизни посюсторонней. Но при всем моем желании я это знание никому не могу дать» [5, с. 165].
Убеждение в ненаучности «научного атеизма» побуждает визионера открыто и публично заявлять об этом, обращаться в различные инстанции. В 2005 – 2006 годах при непосредственном участии В.А. Шмидта был издан двухтомник его работ, куда помимо собственно оригинальных концептуальных работ и стихотворных произведений, также включена часть его переписки с органами власти, учреждениями, редакциями газет и журналов. Письма и рассуждения по поводу публикаций на тему научного атеизма представляют наибольший интерес. Всего опубликовано 24 письма, датируемых 1955 – 1988 годами. Красноречивы адресаты эпистолий: Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК КПСС, редакции газет «Neues Leben», «Комсомольская правда», «Литературная газета», «Аргументы и факты», «Ишимская правда», Президиум АН СССР, Академия медицинских наук. Есть письма, адресованные лично главам государства – Н.С. Хрущеву (от 27 января 1958) и Л.И. Брежневу (от 16 апреля 1977).
На протяжении тридцати лет Шмитд пытался добиться от власти публичного признания неправомочности существования и пропаганды «научного атеизма». В настойчивом стремлении быть услышанным для него не существовало преград. Колоссальнейшая сила внутреннего убеждения, подкрепленная строго выверенными логическими размышлениями и безупречно честным и высоконравственным поведением в обыденной жизни, позволяли пренебрегать возможными весьма негативными последствиями. В стране, где воинствующий атеизм был возведен в ранг государственной идеологии и политики, быть его открытым противником было равносильно самоубийству. И визионер прекрасно это понимал. В письме к Н.С. Хрущову он прямо пишет, что осознает всю разницу положения своего и адресата, и отдает отчет в возможности отрицательного варианта развития событий, но поступить иначе не может.
Ни беседы с представителями «известных» компетентных органов, ни прессинг через прокуратуру, ни встречи с медицинскими работниками не смогли повлиять на позицию В.А. Шмидта. Это удивительно, но механизм подавления и преследования противников государственной идеологии в отношении Шмитда не сработал. Он подвергался давлению, но сумел избежать преследований, всю жизнь проработал на должностях среднего руководящего состава – плановик-экономист, заместитель начальника планово-производственной части и закончил трудовую деятельность в 1986 году в должности старшего экономиста. Не подвергался публичной травле, как это было, например, с руководителями нелегальных общин лютеран и меннонитов в Тюменской области в 60 – 70-е годы. Не привлекался к общественным судам, столь излюбленному в советское время методу воздействия на инакомыслящих. Причины такого мягкого отношения к оппозиционеру – тема для отдельного рассуждения, а основания, по-видимому, были. Для нас же сейчас важно отметить, что единожды получив опыт личного знания в случайном событии – сне, – и утвердившись в полученном знании, в не самой благоприятной атмосфере, визионер пронес это убеждение через всю оставшуюся жизнь, активно отстаивая его, игнорируя при этом те опасности, что таились в такой позиции. В его устах сон не стал предметом простой коммуникации. Для него, сон был «прямой речью потусторонней сферы… не просто речь, но речь-действие», которая указывает, рекомендует, предупреждает [2, с. 23]. Сновидение Шмидта лишено и символической интерпретации, что по предварительным наблюдениям А.А. Панченко характерно и для крестьянской традиционной культуры [2, с. 23]. Но, в отличие от функционирования в традиционной повседневности, где сон чаще побуждает к осуществлению конкретных, ограниченных во времени и пространстве, действий, сновидение Шмидта положило начало новому этапу в его жизни. Сон стал побудительным мотивом формирования специфической системы взглядов на окружающий мир, что выразилось в словесном освоении социального мира в форме «словокартин», раскрывающих скрытые пружины «психофизических механизмов» общественной жизни.
Список литературы «Сон смешного человека» Вольдемара Шмидта (случай как поворотный пункт в жизненном пути)
- Могильницкий Б.Г. История исторической мысли ХХ века: Курс лекций. Вып. III: Историографическая революция. -Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008. -554 с.
- Панченко А.А. Сон и сновидение в традиционных религиозных практиках//Сны и видения в народной культуре. Мифологический, религиозно-мистический и культурно-психологический аспекты/Сост. О.Б. Христофорова. Отв. ред. С.Ю. Неклюдов. -М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2001. -С. 9 -25.
- Сны и видения в народной культуре. Мифологический, религиозномистический и культурно-психологический аспекты/Сост. О.Б. Христофорова. Отв. ред. С.Ю. Неклюдов. -М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2001. -382 с.
- Шмидт В. А. В свете личного знания чрезвычайной истины. В 2 т. -Ишим, 2005-2006.
- Шмидт В. А. На карандаш с ответом на вопрос «Что есть любовь?» и комментарии к стихотворению «Для ясности»//Шмитд В. А. В свете личного знания истины. Т. 2. -Ишим.-С. 106 -216.