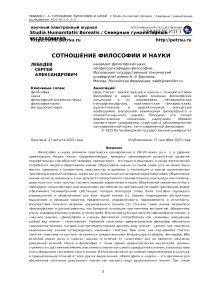Соотношение философии и науки
Автор: Лебедев С.А.
Журнал: Studia Humanitatis Borealis @studhbor
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (35), 2025 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи – реконструкция и оценка с позиций истории философии и науки четырех основных философских концепций в их взаимосвязи: метафизическая (натурфилософская), позитивистская (эмпиристская), дуалистическая и диалектическая (концепция необходимой внутренней взаимосвязи философского и конкретно-научного знания). Показано, что только диалектическая концепция наилучшим образом соответствует содержанию, структуре и закономерностям как современной науки, так и современной философии.
Философия, наука, философские основания науки, философия науки, методология науки
Короткий адрес: https://sciup.org/147251767
IDR: 147251767 | DOI: 10.15393/j12.art.2025.4241
Текст научной статьи Соотношение философии и науки
Studia Humanitatis Borealis / Северные гуманитарныеKTETV иhсtсtpлsе:д//
Философия и наука возникли практически одновременно в VIII–VII веках до н. э. в древних цивилизациях Индии, Китая, Средиземноморья, явившись закономерным результатом развития познавательных способностей человека, прежде всего – его языка и мышления, а также практической потребности людей в объективном знании. Объективное знание по самой своей сути не может быть жестко привязано к конкретному пространству и времени, к «конечным» и всегда ограниченным чувственным данным человека, также как и к личностным когнитивным характеристикам. Объективное знание не могло возникнуть и как результат коллективного познавательного опыта рода или племени, даже если этот опыт получал соответствующее закрепление в языке. Объективное знание могло быть порождено только абстрактным мышлением как абсолютно нейтральной по своей чувственной форме («безликой») познавательной субстанции, которая благодаря этому была способна порождать универсальное и общезначимое для всех людей знание [1]. Знание, порождаемое абстрактным мышлением и имеющее свойства предметности, определенности, проверяемости и истинности, впоследствии получило название «рационального знания» [2]. Сначала такое знание называлось «философским» и рассматривалось как бинарная оппозиция чувственному восприятию, обыденному опыту, индивидуальному мнению, а также мифу. В античной культуре понятия «философское знание» и «научное знание», «философия» и «наука» фактически употреблялись как синонимы, именующие особый вид знания – «эпистемное». Термином «эпистема» древнегреческие философы обозначали «доказанное знание», которое они противопоставляли другому виду знания – «доксе» как логически недоказанному знанию (утверждению), «мнению», гипотезе. При этом, как подчеркивал Платон, понятия «эпистема» и «истина» не являются тождественными. Второе шире по объему, чем первое. Ибо истинной может быть и «докса», однако, в отличие от «эпистемы» она не является логически доказанной истиной. Наука и философия, с точки зрения древнегреческих мыслителей, должны стремиться к достижению именно эпистемного знания как самого совершенного знания, а впоследствии стать обширными системами такого знания. В этом заключается их главное предназначение в культуре и принципиальное отличие от всех других видов знания. «Философия» и «наука» – это два имени для обозначения логически доказанного знания как высшего вида рационального знания. При таком понимании у древних греков в область «доксы» попали почти все знания, накопленные в других цивилизациях [3]. Это было не только традиционное мифологическое или религиозное знание, но и огромное количество эмпирических сведений и результатов когнитивного «техно» древневосточной науки (Вавилон, Шумеры, Индия, Египет): древняя астрономия, геометрия, арифметика, механика и др.
Проект создания системы «эпистемного знания» был не только разработан и теоретически обоснован в рамках древнегреческой философии (Фалес, Парменид, Платон, Аристотель и др.), но и получил свою успешную реализацию на практике. Прежде всего, он получил свое воплощение в успешном построении древнегреческими учеными (Фалес, Эвклид и др.) геометрии как логически доказательной, аксиоматической системы знания. На рреализациюэ этого ппроектаууг грековуушло примерно 300 лет. Свое блестящее завершение он получил в «Началах» Эвклида – выдающемся памятнике древнегреческой науки и культуры. Однако и в других областях знания греками были получены подобные результаты. Это и физика Демокрита, и логика Аристотеля, и механика Архимеда, и геоцентрическая система астрономии Птолемея, и многие достижения ученых Александрийской школы. Не менее впечатляющими результатами реализации проекта науки как эпистемного знания следует признать создание древнегреческими философами различных философских систем (начиная от милетских натурфилософов, Пифагора, Гераклита и заканчивая построением грандиозных философских систем Платоном и Аристотелем). Греки, безусловно, внесли фундаментальный вклад в формирование и философии, и науки, заложив основу их современного понимания [4].
1. Метафизическая («трансценденталистская», натурфилософская) концепция соотношения философии и науки
Уже начиная с Аристотеля, древнегреческие мыслители приходили к необходимости различения внутри эпистемного знания двух его различных видов по степени их общности и фундаментальности: частно-научное знание и философское знание. Философия (или, как называл ее Аристотель, «первая философия») понималась как знание «первых принципов бытия и познания» (Аристотель), как аксиоматика всего эпистемного знания. Частные науки (или «вторая философия» по терминологии Аристотеля) имеют дело с познанием законов отдельных сфер бытия (природы, общества, человека), а также его рразличных ообластей ( (неорганическая ииоорганическая пприрода, иистория, пполитика, нравственность, искусство и др.). По отношению к ним философия впоследствии получила название «метафизика» (что в переводе с греческого означает «после физики» или «выше физики»). После выделения внутри эпистемного знания философии и частных наук закономерно возникли вопросы об их взаимосвязи, о значении и функциях каждой из них в общей системе рационального знания. Достаточно четкое и обоснованное решение этого вопроса впервые было дано Аристотелем, а впоследствии детально развито другими философами и учеными. Суть этого решения состояла в том, что частные науки рассматривались в системе рационального знания как не просто логически взаимосвязанные с философией («метафизикой»), но и полностью зависящие от нее в своем функционировании и развитии. Отношение между философией и частными науками понималось как аналогичное отношению между аксиомами и теоремами в такой идеально построенной частной науке, как эвклидова геометрия. В геометрии теоремы не только не могут противоречить аксиомам, но и получают статус истинного знания только тогда, когда логически следуют из аксиом. Истинность же аксиом геометрии должна усматриваться разумом непосредственно и потому не нуждается в их выведении из каких-то еще более общих принципов. Однако в науках о природе, обществе и человеке дело обстоит гораздо сложнее. Большинство из этих наук (особенно науки о природе) имеют, по Аристотелю, опытное происхождение, имея своим источником наблюдения и чувственное познание своих предметов. Аристотель, как создатель логики, прекрасно понимал, что опыт и его индуктивное обобщение не могут служить средствами доказательства истинности общих законов и принципов. Дело в том, что опыт всегда конечен и в принципе может быть продолжен в дальнейшем, а потому его обобщение или индукция является лишь эвристической, но не доказательной логической процедурой. Индукция способна приводить лишь к вероятным, но не к доказательным выводам. Цель же науки – достоверное и логически доказанное знание. Такое знание может быть получено только путем дедукции, только путем его вывода из более общего, но при этом истинного знания. На статус всеобщего истинного знания может претендовать только первая философия. Разработка и построение такого знания составляют главную задачу и предмет философии как метафизики, как науки наук или высшей науки (Аристотель) [4].
Формула «философия – царица наук» (Аристотель), или в ее более поздней версии: «всякая частная наука – суть прикладная философия» (Гегель), выражают ссущность <«метафизической» или «натурфилософской» концепции соотношения философии и частных наук. В рамках этой концепции философия трактуется как фундаментальный и первичный вид знания по отношению к частным наукам. Только путем философского обоснования научное знание может приобрести статус истинного. Это обоснование заключается в логическом выведении законов и принципов всех частных наук из принципов истинной философии, в дедуктивном подведении первых под вторые. При этом истинность философского знания и возможность его достижения в «метафизической» концепции соотношения философии и науки не ставится под сомнение и считается чем-то само собой разумеющимся, или тем, что можно всегда продемонстрировать. Эта демонстрация осуществлялась, в частности, в форме создания различных систем философии природы или натурфилософских построений. С точки зрения натурфилософии законы и принципы любой естественной науки не могут противоречить истинной философии. Если же это имеет место, то именно принципы науки либо не достоверны, либо ложны. Во взаимодействии философии и науки приоритет и «руководящая роль» принадлежит философии. Наука же в этой системе является ведомым звеном и должна «подчиняться» философии.
«Метафизическая» (или «трансценденталистская») концепция соотношения философии и науки была господствующей в европейской культуре почти до середины XIX века, и не просто господствующей, а по существу – безальтернативной [3]. Эту концепцию соотношения философии и науки долгое время разделяли не только все философы, но также практически все ученые и основоположники классической науки ГГ. Галилей,иИ.чНьютон,3Р.□Декарт,4Ж-Б.ПЛамарк,1Ч.□Дарвинииддр. Даже основной труд И. Ньютона по механике имел весьма симптоматичное название: «Математические начала натуральной философии», явно демонстрируя приверженность ее автора к концепции ведущей роли философии по отношению к науке. Эту приверженность к трансценденталистской трактовке соотношения философии и науки мы находим также и у всех философов Нового времени и эпохи Просвещения (Г. Лейбниц, Дж. Локк, Д. Юм, И. Кант и др.), большинства философов XIX века (Г. Гегель, Ф. Шеллинг, Г. Риккерт, В. Виндельбанд, Ф. Энгельс, Э. Гуссерль и др.), а также ряда видных философов ХХ века (А. Уайтхед, А. Бергсон, Тейяр де Шарден и др.). Хотя аргументация указанных выше философов в пользу гносеологического приоритета философии по отношению к частным наукам была существенно различной (в зависимости от типа разделяемой ими философии, а также трактовки ими науки, ее предмета и метода), тем не менее, все они были сторонниками «влиятельной метафизики» и концепции ведущей роли философии во всех сферах познания, в том числе в научном познании природы.
Каковы причины столь длительного господства данной концепции соотношения философии и науки? Их несколько. Во-первых, различный вес философии и частных наук, который они имели в структуре реальной культуры. Долгое время, по существу до середины XIX века, философия действительно имела более важное социокультурное значение для развития общества, чем наука (как в мировоззренческом, так и в чисто познавательном плане). Только в Средние века философия уступила роль ведущего фактора развития общества, культуры и познания, но, как известно, уступила религии, а отнюдь не науке. Во-вторых, частным наукам в отличие от философии требуется гораздо больше времени для достижения своей зрелости. Это связано, прежде всего, с необходимостью накопления большого объема эмпирического материала (фактов, данных наблюдения и экспериментов) как основы для последующих собственных научных обобщений и нахождения закономерных (то есть повторяющихся и существенных) связей между явлениями изучаемой предметной области. Если в философии основным способом построения теорий является рациональная рефлексия или свободная конструктивная мысль (а именно с ее помощью в Древней Греции были созданы почти все логически возможные варианты мировоззрения), то наука в силу своего метода вынуждена развиваться относительно более медленно, чем философия, и при этом крайне неравномерно по областям (например, более быстро, чем естествознание, развивались математика, логика и гуманитарные науки, которые не требовали для своего создания ни точного эмпирического материала, ни развитой приборной базы). В-третьих, как показывает история культуры, философия является существенно востребованной при любом типе общества и культуры, тогда как конкретные науки (особенно, математика, естествознание и технические науки) – только в цивилизациях, ориентированных на инновационный характер своего развития. Например, средневековая европейская цивилизация и культура явно не нуждались в сколько-нибудь интенсивном развитии частных наук для своего успешного функционирования и воспроизводства. И эта ситуация имела место в течение почти пятнадцати веков. В-четвертых, добровольное подчинение частных наук именно философии всегда имело своим основанием то существенное обстоятельство, что философия разделяет общую с наукой идеологию рационального постижения действительности и рациональные идеалы знания. Наконец, пятой причиной господства в истории культуры трансценденталистской концепции соотношения философии и науки является то, что достижение всеобщего знания, универсальных истин всегда было
-
и, видимо, всегда будет конечной целью развития не только философии, но и самой науки. Поэтому философия всегда фактически играла роль некоторого идеала для науки, конечного пункта своего развития. Другое дело, что эта цель с точки зрения ее действительной реализации может быть отнесена лишь в бесконечность, в некоторую «точку омега» (Тейяр де Шарден). Философия при этом, в отличие от науки, всегда исходила из возможности достичь своими методами всеобщего и необходимого знания о мире за конечное время, рекомендуя науке воспользоваться ее методами, а иногда даже и настаивая на этом (Гегель, марксизм, неотомизм и др.) [3].
В чем достоинства (плюсы) и в чем недостатки (минусы) метафизической концепции соотношения философии и частных наук? К числу достоинств необходимо отнести следующее:
1) обоснование того, что наука нуждается в «кураторстве» со стороны культуры и что наилучшим когнитивным «опекуном» для науки от имени культуры как целого может выступать именно философия как рациональная и наиболее близкая науке по своим ценностным характеристикам форма мировоззрения; 2) эвристическое влияние философии на науку путем «постава» для нее ряда общих метафизических идей (например, идеи всеобщей взаимосвязи всех явлений в мире, или существования законов природы, или идеи эволюции и развития любых объектов и систем, или идеи принципиальной познаваемости мира, или обоснование целесообразного устройства всего существующего). Наиболее яркими фактами позитивного влияния философии на развитие науки являются: 1) само возникновение науки под влиянием философии; 2) создание геометрии как первой системы доказательного знания в Древней Греции, а также физики и астрономии как точных наук о природе; 3) позитивное влияние философских идей атомизма, а также концепций вечности и бесконечности мира на создание механики Ньютона, а также классической науки в целом; 4) заимствование гегелевского учения о всеобщем характере развития и его диалектическом характере биологическими, социальными, историческими и другими науками и т. д.; 5) выполнение философией в течение многих веков функции теоретического уровня знания во многих частных науках в силу отсутствия у них собственного развитого теоретического аппарата [3].
2. Позитивистская (эмпиристская) концепция отношения философии и науки
К числу основных недостатков метафизической концепции соотношения философии и частных наук относятся: 1) менторское, а часто и просто высокомерное отношение трансцендентальных философов к науке как к гносеологически более «низкому» виду знания, чем истинная философия; 2) понимание характера взаимосвязи философии и науки как имеющей однонаправленно обязывающий характер: от философии к науке, но не в обратном направлении (с этой точки зрения наука в принципе ничему не может научить философию, ибо последняя абсолютно самодостаточна в отличие от науки); 3) недостаточно критический характер оценки философами познавательных возможностей самой философии, рассматриваемой часто в виде Абсолютной истины; 4) тормозящее, а в ряде случаев и просто деструктивное влияние философии на развитие науки, связанное с отрицательной и неверной оценкой многих научных идей и концепций от имени философской абсолютной истины. Примеров такого отрицательного влияния философии на развитие конкретных наук история их взаимодействия предоставляет множество. Это и решительное неприятие сторонниками аристотелевской, а позже и средневековой философии, гелиоцентрической модели астрономии. Это и обоснование Кантом от имени философии принципиальной невозможности другой геометрии, кроме эвклидовой, и другой логики, кроме аристотелевской, другой механики, кроме механики Ньютона. Это и чрезвычайно низкая оценка Гегелем с позиций его диалектической философии классической физики и математики в силу отсутствия в них идей развития. Это и отрицательная оценка в 30–60-е годы XX века советскими философами от имени диалектического материализма почти всех новых, неклассических естественнонаучных теорий как «лженаучных»: частная и общая теория относительности, квантовая механика, генетика, математическая логика, теория систем, кибернетика. Не говоря уже об оценке ими в качестве реакционных всех немарксистских теорий общества. В итоге оказалось, что минусы метафизической концепции соотношения философии и науки могут значительно перевешивать ее плюсы. Вот почему в XX веке она перестала пользоваться той популярностью со стороны как ученых, так и философов, которую эта концепция имела в предшествующие эпохи развития общества. Тем не менее, было бы неверно и с исторической, и с логической точки зрения считать эту концепцию полностью неадекватной реальному положению дел между философией и наукой. В интервал объяснения ею характера взаимосвязи философии и науки хорошо попадают многие реальные факты и аспекты их взаимодействия в процессе развития культуры. Это, например, такие явления, как не только зарождение под влиянием философии самой науки, но и возникновение в ней в последующем (в том числе и в наше время) новых научных направлений и фундаментальных теорий: квантовая механика, современная космология, синергетика, ноосферная теория, теория информации. Это и функционирование науки в период научных революций, во время поиска учеными путей выхода из кризиса науки и поиска новых научных парадигм как основы нового периода функционирования науки (Т. Кун). Это и постоянное мощное влияние философии на весь корпус социально-гуманитарных наук, начиная от исторических наук и кончая психологией, лингвистикой и литературоведением и всеми науками о человеке. Оказалось, что здесь без привлечения общих идей философии как объяснительного ресурса не обойтись в принципе. Вместе с тем, для большинства современных ученых и философов стало очевидно, что бывшие претензии метафизической концепции соотношения философии и науки на единственность и ууниверсальностьс сегодня яявляютсяяявноннесостоятельными.дДело ввттом, ч что подавляющее большинство аспектов функционирования реальной науки не только всегда осуществлялось, но и осуществляется сегодня не столько благодаря ее связи с философией, сколько под влиянием других детерминантов научного познания (эксперимент, математическое моделирование, практическое испытание научных моделей и др.) [3].
Позитивистская концепция соотношения философии и науки представляет собой диаметрально противоположный метафизической концепции вариант решения этой проблемы. Он заключается не просто в полном отрицании положительного влияния философии на развитие и функционирование науки, но и в утверждении взгляда, что философия как «метафизика» является «псевдознанием», умозрительной схоластикой, место которой в развитом обществе должно находиться на «исторической свалке» рядом с такими формами человеческих заблуждений как мифология, религия иицдругие,яявно антинаучные, конструкты человеческого сознания. Вместо философии как «метафизики» создателями позитивизма Контом, Спенсером и Миллем было предложено создать новую, научную философию, которая от всех других наук должна отличаться только своим предметом, но не методом [5]. Метод у всех наук должен быть только один: накопление опытных данных о познаваемой реальности и их обобщение при создании научного знания о ней. Согласно Конту, человеческое мышление в своем историческом развитии последовательно прошло три основных стадии – мифологическо-религиозную, философскую («метафизическую») – и вышло на ппоследнюю,кконкретно-научнуюиилиппозитивную. Каждая последующая стадия мышления была более зрелой, чем предыдущие. Но только эмпирическое мышление является не только самой зрелой формой человеческого познания, но и его окончательной формой. Согласно Конту, основная историческая заслуга прежней философии («метафизики») состояла лишь в одном – в подготовке и формировании позитивного, опытного мышления. С возникновением и утверждением в обществе этого способа познания как самого зрелого необходимость обращения к философскому мышлению для познания мира полностью отпадает. Более того, обращение ученых к философии при решении своих проблем является не только излишним, но и чрезвычайно вредным, так как тормозит научный способ решения проблем, подменяя его менее полноценным – философско-метафизическим, умозрительным подходом. Согласно позитивизму главная опасность «метафизики» заключается в подмене научного способа познания философией, в мимикрии философии под науку, что неминуемо ведет к «засорению» научного знания схоластическими ппостроениями,1при этом выступающими от имени абсолютной истины. Отличие конкретно-научного («позитивного») способа мышления от философского как раз и состоит в том, что, будучи зрелой и ответственной, позитивная наука принципиально отказывается от поиска и формулирования абсолютных и универсальных истин о мире, считая это иллюзорной и нереализуемой целью. Напротив, она сосредотачивает все свои усилия только на относительных и частных истинах, на фактах и законах отдельных сфер реальности [6]. Поскольку философия как метафизика – ненаучна, а конкретные науки – не философичны в своем истинном содержании, постольку, считают позитивисты, между ними не может быть никакого продуктивного взаимодействия.
Зрелая наука, заявляют позитивисты, сама способна справиться (и в целом, как показывает история реальной науки, успешно справляется) со своими проблемами, не нуждаясь в помощи со стороны философии. «Наука ссама себеtфилософия» – вотскредо1и сущность позитивизма в отношении к традиционной философии [7]. Однако это только одна сторона медали, так сказать «негативная» часть позитивистского решения вопроса о соотношении философии и науки. Другая же, «положительная» ее часть, состояла в предложении построить взамен старой, метафизической философии новую философию, которая отвечала бы всем стандартам научности и стала бы тем самым сама одной из конкретных наук. Более того, с точки зрения позитивистов многие интенции и проблемы старой философии сами по себе вполне приемлемы и законны с научной точки зрения. Например, стремление человека познать законы окружающей его природы, или устройство общества, или сущность человека и его возможности, или способы истинного познания реальности и т. д. Неправильными же и неприемлемыми с позиций позитивизма являются методы решения этих проблем в рамках традиционной философии, которые были в основном умозрительными и спекулятивными. Новая («научная») философия в отличие от прежней должна решать все общие проблемы бытия и познания теми же средствами, что и все другие конкретные науки (физика, астрономия, история, биология и т. д.), то есть путем обобщения конкретного эмпирического материала. Например, в этом плане научное философское учение о мире, научная философская онтология вполне возможна. Однако оно должно быть только обобщением тех знаний, которые дают о мире все частные науки определенного времени. Философская онтология не имеет права выходить за пределы этого знания, она всегда может только следовать за наукой своего времени, но ни в коем случае не опережать ее, как бы это не выглядело заманчиво. Иной путь – прямая дорога к философскому мифотворчеству [8].
Такого же рода рекомендации О. Конт давал и в отношении научного способа построения такого раздела философии как теория познания. «Хотите знать, – спрашивал он, – какими средствами достигается истинное знание о мире? – Прекрасно. Изучайте реальный опыт научного познания, реальную историю науки, как высшей, наиболее развитой формы человеческого познания. Идите в научные лаборатории, на кафедры, наблюдайте и обобщайте познавательную деятельность современных ученых, а не учите их методам получения истины, придуманных философами в их умозрительных концепциях об истинном познании». Свои рекомендации позитивисты распространили и на научный способ познания общества. Как известно, именно Конт стал основоположником идеи создания социологии как конкретно-научного, а не философского способа изучения общества и описания законов его функционирования и развития.
В чем плюсы и в чем минусы позитивистского решения вопроса о соотношении философии и науки? Среди несомненных достоинств позитивистского решения проблемы соотношения философии и науки можно отметить следующие черты: 1) подчеркивание относительной самостоятельности и относительной независимости развитой (зрелой) науки от философии как «метафизики»; 2) призыв к ориентации любой философии, претендующей нна:<«научность»,ЧнаЭреальнуюч науку,5ее содержаниеии методы с целью их последующего обобщения, а также как на один из критериев истинности самих философских построений; 3) подчеркивание качественного различия между классической философией («метафизикой») и конкретно-научным знанием, между традиционной философской методологией и научным способом познания действительности, вплоть до признания их полной противоположности и несовместимости. К числу же явных минусов позитивистской концепции соотношения философии и науки относятся: 1) недостаточно обоснованное решение о якобы бесполезности и исчерпанности когнитивных ресурсов классической философии как важного позитивного фактора функционирования и развития культуры; 2) неверное понимание сущности и структуры реального научного знания и стремление свести его только к эмпирическому знанию. Следствия такого подхода: а) недооценка позитивистами качественной специфики теоретического знания в науке по сравнению с эмпирическим знанием и особой роли научных теорий в структуре и динамике науки; б) неверная интерпретация природы математического знания и его отличия от естественнонаучного знания; 3) рассмотрение науки в качестве абсолютно самодостаточной системы культуры, развивающейся лишь по своим собственным имманентным законам (интернализм); 4) неправомерное абстрагирование позитивистами от ценностной «нагруженности» науки и научного способа познания (тезис о ценностной нейтральности науки) [9]; 5) абсолютизация возможностей эмпирических методов исследования в достижении объективно-истинного знания (эмпиризм); 6) сведение метода философии науки только к эмпирическому исследованию, описанию и обобщению содержания реальной науки и деятельности ученых; 7) редукция научной философии только к философии науки.
Самым трудным (и, как оказалось, в принципе невозможным) в реализации позитивистской концепции соотношения философии и науки оказалось построение философии как одной из конкретных наук. По существу, вся эволюция позитивизма от его возникновения в 30-е годы XIX века вплоть до его ухода с философской сцены (70–80-е годы ХХ века) представляла собой последовательность и смену одной неудачной попытки ппостроения я якобы ннаучной 4философии ддругой, к которая ттакже, ккак оказывалось со временем, была несостоятельной. Эта последовательность попыток позитивистов построить научную философию выглядит следующим образом: 1) научная оонтология( (Г. Спенсер)ии методология науки (Дж. Ст. Милль) 2)гпсихологияI/ иссоциологияинаучной^деятельности((Э. МахI/ илдр.) 3 3) логика науки (М. Шлик, Б. Рассел, Р. Карнап и др.) А4) Jлингвистический ганализ ?языка инауки ((Л. Витгенштейн, Дж. Райл, Дж. Остин и др.) 55)ттеория^динамикиI/ иГразвитияинаучного3знания((К.ГПопперI/ и др.). В итоге оказалось, что не только не возможна философия как одна из конкретных (частных) наук, но, напротив, все реальные науки (естественные, математические, но особенно социально-гуманитарные) не свободны от определенных философских, «метафизических» допущений и всегда опираются на них. Правда, эти допущения не являются чем-то постоянным и неизменным как в исторической динамике науки в целом, так и в отношении разных научных дисциплин и теорий. Чем обусловлено такое положение дел? С одной стороны, целостностью культуры, в которой все ее подсистемы, включая философию и науку, находятся во взаимосвязи и взаимодействии друг с другом, а, с другой – неоднозначным характером самих этих взаимосвязей, вызванных качественно разнообразным содержанием как философских, так и научных систем знания, тем более что и те и другие постоянно изменяются [10].
Претензии позитивистов на универсальность и безусловную истинность предложенного ими решения вопроса о взаимосвязи философии и науки оказались столь же несостоятельными, как и у «трансценденталистов». Вместе с тем, было бы несправедливо отказывать позитивистской концепции соотношения философии и науки на относительную истинность их позиции по отношению к реальной взаимосвязи философского и конкретно-научного знания. В интервал позитивистской концепции хорошо укладываются, например, факты независимости экспериментальной деятельности ученых от философских знаний и даже правильного подчеркивания ими вредности философствования при проведении экспериментов и осуществлении математических расчетов или логических выводов. Для этого наука давно выработала другие средства и методы. Столь же вредно и, по крайней мере, неэффективно философствовать (привлекать корпус философского знания) при создании и обосновании частных научных теорий. Для этого есть общепринятые в науке фундаментальные теории. Конечно, значимость философии как фактора развития зрелой науки значительно уступает собственным ресурсам науки и внутренним закономерностям ее развития. И здесь позитивизм оказался прав. Развитие технических и технологических наук также в целом хорошо укладывается в позитивистскую концепцию соотношения философии и науки, ибо осуществляется в основном не благодаря использованию имеющихся философских знаний, а под влиянием других факторов: материальных потребностей, необходимости совершенствования техники, технологий, производства, экономики, социальной сферы. Однако, позитивизм явно обнаруживает свою несостоятельность, когда начинает претендовать на общезначимость своей концепции соотношения философии и науки, на объяснение со своих позиций всех аспектов функционирования и развития реальной науки. Процессы научных революций, смена культурно-исторических типов науки, существование в структуре фундаментальных теорий и исследовательских программ, философских оснований и предпосылок науки явно не укладываются в позитивистскую схему [11].
3. Дуалистическая (антиинтеракционистская) концепция соотношения философии и науки
Согласно сторонникам дуалистической концепции (представители экзистенциализма, философии культуры, философии ценностей, философии жизни и др.) философия и наука настолько различны по своим целям, предметам и методам, что между ними в принципе не может быть никакой внутренней взаимосвязи. Каждый из этих типов знания, считают они, развивается по своей внутренней логике и поэтому влияние философии на науку, как и обратно, науки на философию может быть только чисто внешним, иррелевантным или даже просто вредным для них обеих. «Философия – не научна, наука – не философична» – так можно сформулировать суть этой концепции. Внешне эта концепция похожа на позицию позитивистов в их отрицании полезности философии для развития науки. Однако между ней и позитивизмом имеются глубокие различия. Дуалисты в отличие от позитивистов отрицают не только пользу и необходимость обращения науки к философии, но столь же решительно отвергают и необходимость обращения философии к науке и ее содержанию для решения философских проблем. В последнем случае, считают они, наука отнюдь не помощник, а скорее помеха для философии, ибо их языки, методы и интуиция существенно различаются между собой, будучи иррелевантными друг другу или даже исключающими одно другое. Например, говорят экзистенциалисты, бессмысленно чисто научно пытаться решать одну из фундаментальных проблем философии – проблему смысла жизни человека. Любая подобного рода попытка неминуемо ведет просто к разрушению самой проблемы. То же относится и к другим проблемам философского мировоззрения – этическим, эстетическим, герменевтическим и др. Язык и методы науки, считают дуалисты, настолько чужды философии, что истинный философ должен подальше держаться от науки, если хочет оставаться философом-профессионалом. Для философии как области мировоззренческой рефлексии более адекватным является не научный, а скорее метафорически образный и эмоционально-выразительный язык искусства, например, язык литературы. Философия принадлежит к тем видам человеческого знания, где стремление к максимальной точности скорее вредно, чем полезно. Второе существенное различие между ними состоит в том, что в отличие от позитивистов философию они рассматривают как имеющую более высокий социальный и общекультурный статус, чем конкретные науки. Главное предназначение последних – создание новой техники и технологий и удовлетворение материальных потребностей людей, тогда как основная цель философии – совершенствование духовного мира человека. Очевидно, что наука не способна не только решить, но даже приступить к решению второй проблемы. Более того, способствуя максимальному «разогреву» материальных целей и потребностей, наука в определенной мере несет прямую ответственность за формирование в обществе идеологии потребления, когда ценность «иметь» становится превалирующей над ценностью «быть» (имеется в виду «быть человеком» в сущностном смысле этих слов).
Каковы положительные и отрицательные стороны дуалистической концепции соотношения философии и науки? К числу ее положительных сторон относятся: 1) подчеркивание качественного различия между философией и наукой по всем параметрам их существования; 2) справедливая оценка огромной и ничем незаменимой (в том числе и наукой) духовной и гуманистической роли философии в развитии культуры, а также осмысления человеком своей сущности; 3) акцентирование в качестве главного фактора развития, как философии, так и науки, их внутренних закономерностей, собственной логики и методологии разворачивания содержания своих областей знания, а не их взаимного влияния друг на друга, или воздействия на hних ссо сстороны других ссоциокультурных факторов. ЕЕе отрицательными сторонами являются: 1) абсолютизация качественного различия между философией и наукой как видами знания и формами культуры; 2) установка на возможность проведения жесткой демаркационной линии между философским и конкретно-научным знанием; 3) явно заниженная оценка положительного влияния науки на развитие философии и культуры в целом; это не соответствует как истории их взаимоотношения, так и современному состоянию; 4) отрицание ими возможности построения философии науки как области междисциплинарного знания, использующей как философские, так и конкретно-научные методы (исторические, логические, эмпирические) в осмыслении науки, в нахождении общих закономерностей ее функционирования и развития; 5) отрицание философских оснований науки и философских проблем как важных точек развития науки. В итоге данная концепция оказалась менее востребованной в научном сообществе, чем метафизическая и позитивистская концепции [12].
4. Диалектическая концепция внутренней взаимосвязи философии и конкретных наук
В чем заключается сущность диалектической концепции соотношения философии и науки? Во-первых, в обосновании существования существенной взаимосвязи между философией и наукой, начиная с момента их возникновения и вплоть до сегодняшнего дня. Во-вторых, в трактовке этой взаимосвязи как диалектического единства, как единства во многом противоположных видов знания. В-третьих, в раскрытии структурной сложности механизма и форм взаимодействия философии и науки. В-четвертых, в обосновании того, что эффективное взаимодействие между ними возможно только на основе признания равноправия и относительной самостоятельности каждого из них.
Как убедительно свидетельствует история науки, многие выдающиеся ученые внесли существенный вклад в содержание не только науки, но и философии, особенно в раскрытии общих онтологических и г гносеологических предпосылок1процессаннаучного1познания (Г. Галилей,ИИ.ННьютон, Ч. Дарвин, А. Пуанкаре, А. Эйнштейн, Н. Бор, В. Гейзенберг, А. Н. Колмогоров, В. М. Вернадский, Н. Н. Моисеев и др.). Но доказывает ли это наличие необходимой внутренней взаимосвязи между философией и частными науками? Ведь в качестве контраргумента можно привести довод, что большое количество успешно работающих ученых серьезно не интересуется ни философией, ни даже философскими проблемами науки. А во-вторых, мало ли чем интересуются выдающиеся ученые кроме науки (например, искусством, общественной деятельностью, религией и т. д.)? Это часто личное дело ученого и необходимым образом с его профессиональной деятельностью никак не связано. И это, конечно, справедливо. Поэтому доказательство внутренней, необходимой связи философии и науки должно лежать не в плоскости социологических данных о частоте обращения ученых к философии, а в анализе содержания конкретных наук и философии, пересечений этого содержания, возможностей научного познания и имеющихся в нем средств решения новых научных проблем.
Предмет философии, особенно теоретической – наиболее общее знание о бытии, познании, человеке, обществе, культуре и их взаимоотношении. При этом философия исходит из возможности постигнуть это всеобщее знание рационально, внеэмпирическим путем [13]. Предметом же любой частной науки является частное, единичное, конкретный «кусок» мира, эмпирически и теоретически полностью контролируемый, а потому и эффективно осваиваемый впоследствии практически. Характер внутреннего взаимоотношения философии и частных наук имеет диалектическую природу, являя яркий пример диалектического противоречия, стороны которого, как известно, одновременно и предполагают и отрицают друг друга, а поэтому необходимым образом дополняют друг друга в рамках некоего целого. Таким целым в данном случае выступает все человеческое познание со сложившимся в нем историческим разделением труда, как необходимой основой эффективной организации познавательной деятельности. В этом разделении труда по познанию окружающей человека действительности философия акцентирует познание (моделирование) всеобщих связей и отношений мира, человека, их отношения между собой, ценой абстрагирования от частного и единичного. И единственно, где философия серьезно «спотыкается» при своем рационально-всеобщем подходе к изучению бытия, это – человек, поскольку он возможен в качестве предмета философского осмысления именно своей индивидуальной и уникальной экзистенцией [9]. Любая конкретная наука не изучает мир в целом, в его всеобщих связях. Она абстрагируется от этого. Всю свою когнитивную энергию она направляет на познание своего частного предмета, изучая его во всех деталях и структурных срезах. Собственно наука стала по-настоящему современной только тогда, когда сознательно ограничила себя познанием частного, отдельного, конкретного, относительно которого только и возможно собрать и эмпирически обобщить достаточно большой конкретный, а потому впоследствии практически используемый объем информации. С точки зрения познания действительности как целого и философия и частные науки – одинаково односторонни, хотя при этом каждая по-своему. Однако объективная действительность как целое безразлична к способам ее человеческой рефлексии. Она есть единство всеобщего, особенного и единичного. При этом всеобщее в ней существует не иначе как через особенное и единичное свое проявление, а единичное и особенное существуют не иначе как формы проявления всеобщего. Поэтому адекватное познание действительности как целого, составляющее высшую теоретическую и практическую (биологически-адаптивную) задачу человечества, требует дополнения и, так сказать, «взаимного просвечивания» философского и частно-научного знания. Ясно, что интеграцией философского и частно-научного знания, «наведением мостов» между ними профессионально может заниматься (и реально занимается) достаточно небольшое количество ученых и философов, испытывающих в этом потребность и имеющих соответствующую подготовку, как в философии, так и в той или иной области науки. Среди ученых такую деятельность осуществляют, как правило, крупные теоретики науки, работающие на границе существующего «пространства науки» и последовательно «раздвигающие» это пространство за счет освоения новых территорий. Общий и фундаментальный характер решаемых классиками науки проблем часто одного порядка с масштабом, сложностью и неоднозначностью философских тем и проблем. Философы же часто обращаются к частным наукам как к материалу, призванному подтвердить одни философские конструкции и опровергнуть другие. Особенно это относится ктем философам, которые интересуются построением онтологических моделей, структурой, всеобщими законами и атрибутами объективной реальности [14].
При этом необходимо отметить, что у философии ее «фактуальным» основанием являются результаты не только конкретно-научного познания, но и других способов духовного и практического освоения человеком действительности. Посредством своего категориального аппарата философия пытается в специфической форме отразить, репрезентировать реальное единство всех видов человеческой деятельности, осуществить теоретический синтез всей наличной культуры. Репрезентируя это единство, философия выступает самосознанием эпохи, ее духовной «квинтэссенцией» (Гегель, Маркс). В философии наличная культура как бы рефлексирует саму себя и свои основания [1].
Подчеркивая апостериорное, «земное» происхождение философского знания, необходимо в то же время видеть специфику его генезиса по сравнению с конкретно-научным знанием. Различие здесь заключается, во-первых, в широте объективного базиса абстрагирования и, соответственно, в степени общности и существенности принципов философии и науки. Во-вторых, в самом характере базисов. И наконец, в-третьих, в методах философского и конкретно-научного познания. В то время как эмпирический базис любой конкретно-научной теории носит достаточно определенный и относительно гомогенный характер, «фактуальный» базис философии является «в высшей степени» гетерогенным и неоднозначным по содержанию. Он и не может быть другим, так как включает в себя результаты теоретического и практического, научного и обыденного, художественного и религиозного и других способов освоения человеком действительности. Ясно поэтому, что философское знание не может удовлетворять тем же критериям рациональности и истинности, что и конкретно-научное знание. Благодаря предельной общности и ценностно-мировоззренческой ориентации, философское знание является более общим, умозрительным и рефлексивным, но, вместе с тем, и менее строгим и доказательным, чем конкретно-научное знание.
Чем же диктуется необходимость обращения ученых к философии? Во-первых, как отмечалось выше, объективной взаимосвязью предметов их исследования. А, во-вторых, характером самого процесса конкретно-научного познания. Дело в том, что научное познание совершается отнюдь не «учеными-робинзонами», имеющими дело якобы с «чистыми фактами», и обладающими логическими методами открытия и обоснования научных законов и теорий, а научными сообществами, живущими в определенную эпоху и испытывающими на себе в той или иной степени влияние накопленного знания и культуры своего времени. Процесс научного познания имеет ярко выраженный творческий и социальный характер, главным субъектом которого является не отдельный ученый, а дисциплинарное научное сообщество. Для него абсолютно беспредпосылочного, априорного знания просто не существует. Во-вторых, открытие новых научных законов и теорий всегда происходит в форме конструктивной умственной деятельности ученых по выдвижению, обоснованию и принятию научных гипотез. Этот мыслительный процесс обусловлен не только имеющимися в распоряжении ученого эмпирическими данными, но и опосредован целым спектром факторов, составляющих социокультурный фон данной науки, представлений и принципов научного и вненаучного порядка. Важнейшим элементом этого фона является философия. Как показывает реальная история науки, именно на основе определенных онтологических, гносеологических, логических, методологических и аксиологических оснований строятся различные научные теории, особенно новые и фундаментальные, дается как эмпирическая, так и философская интерпретация научных теоретических построений, оцениваются возможности и перспективы использования определенных методов и подходов в исследовании объективной реальности. Философские основания науки и являются тем посредствующим звеном, которое связывает философское и конкретно-научное знание. Эти основания не являются «личной собственностью» ни науки, ни философии. Они представляют собой «граничное знание» и поэтому могут быть с равным правом отнесены «по ведомству» как философии, так и науки. Существуют различные виды философских оснований науки: онтологические, гносеологические, аксиологические, социокультурные, праксиологические, антропологические [10].
Онтологические основания науки представляют собой принятые в той или иной науке общие представления о картине мира, типах материальных систем, характере их детерминации, формах движения, законах развития изучаемых объектов и т. д. Так, например, одним из онтологических оснований механики Ньютона было представление о субстанциональном характере пространства и времени, их независимости друг от друга и от скорости движения объекта.
Гносеологические основания науки – это принимаемые в рамках определенной науки положения о характере процесса научного познания, соотношении чувственного и рационального, теории и опыта, статусе теоретических понятий и т. д. Например, именно на основе определенного философского истолкования статуса теоретических понятий в науке Э. Мах в свое время отверг научную значимость молекулярно-кинетической теории газов Л. Больцмана. Как известно, Мах придерживался взгляда, что все значимые теоретические понятия должны быть редуцируемы к эмпирическому опыту. Понятие же «атом», на котором была основана молекулярно-кинетическая теория, не удовлетворяло этому условию, так как в то время атомы были не наблюдаемы. Правда, на этом же гносеологическом основании Мах раскритиковал как ненаучные (и как оказалось впоследствии – справедливо) понятия абсолютного пространства и времени механики И. Ньютона.
Ценностные (аксиологические) основания науки представляют собой принятые учеными представления о социально-культурной и теоретической значимости науки, ее целях, этических ценностях науки и ученого, об идеалах, нормах и методах научного исследования. Эти идеалы являются различными не только для разных исторических этапов развития науки, но и для разных наук, существующих в одну и ту же эпоху [9].
Четвертым видом философских оснований науки являются ее социальные основания. Это – представления ученых о взаимосвязи науки и общества, характере и степени востребованности науки обществом, культурой, государством. Совокупность эти представлений со временем «отливается» в то, что может быть названо «идеологией науки». Хотя она, как правило, и не фиксируется при изложении содержания науки, но составляет важнейшее и необходимое условие осуществления и планирования научной деятельности. Отдельные фрагменты идеологии науки находят свое явное отражение и фиксацию в документах, касающихся научной политики, в программных заявлениях научных лидеров и организаторов науки, а также в уставах академий и других научных учреждений, регулирующих характер научной деятельности, ее цели, ценности, отношение с обществом и государством. Например, в одном из первых идеологических документов науки Нового времени, а именно в уставе «Лондонского королевского общества наук и ремесел», были четко прописаны такие положения, как: 1) независимость науки от государства и неприемлемость его вмешательства в дела науки и 2) преимущественной ориентации британской науки на эмпирические исследования, а также на исследования, приносящие практическую пользу обществу, способствующие его техническому развитию и т. д. [13].
Важнейшим компонентом социальных оснований науки является «социокультурный фон» (социокультурный контекст), в рамках которого функционирует и развивается наука определенного исторического периода. В социокультурный фон науки входит также то содержание культуры (достигнутый уровень развития самой науки, философия, искусство, политика, мораль, право, религия и др.), с которым взаимодействует наука и которое релевантно содержанию науки и научной деятельности. Именно через конкретный социокультурный фон осуществляется механизм влияния не только культуры и общества на науку, но и науки – на культуру и общество. Очевидно, что содержание социокультурного фона всегда исторично, динамично и изменчиво, отражая уровень развития цивилизации определенного периода. Более того, релевантная (востребованная) часть одного и того же социокультурного фона может быть различной для разных наук и разных научных дисциплин в одно и то же время. Например, для естественных или социально-гуманитарных наук, для физики или математики и т. д. Установление этой релевантности является делом конкретного историко-научного и историко-культурного анализа.
Пятым видом философских оснований науки являются праксиологические основания. Это представления о взаимосвязи науки и практики, о характере их зависимости друг от друга и механизме влияния потребностей практики на развитие науки и обратно. Это также представления о гносеологическом статусе практики как критерия истинности научного знания и его различных видов, о зависимости науки от структуры и особенностей развития экономики, о видах практической деятельности в самой науке. Такие основания также подлежат обязательной философской рефлексии, так как для разных эпох и для разных наук в одну и ту же эпоху содержание праксиологических оснований может быть и является различным. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить представления ученых и философов о взаимосвязи науки с практикой в античную эпоху и Средние века, затем в Новое время, а тем более в XX веке.
Шестым видом философских оснований науки, оказывающих существенное влияние на деятельность ученых, их мотивацию и творческий потенциал являются антропологические основания научной деятельности. Это представления ученых о смысле своей деятельности, о предназначении ученого, характере его взаимоотношений с обществом, их взаимной ответственности друг перед другом. История науки свидетельствует о том, что выбор учеными тех или иных антропологических оснований своей деятельности является фактором, который в значительной степени определял судьбу ученых и их вклад в развитие науки [15].
Диалектическая концепция взаимосвязи философии и науки исходит не только из существенного влияния философии на развитие науки (не соглашаясь здесь с позитивизмом и в определенной степени поддерживая трансценденталистскую концепцию), но и утверждает столь же существенное влияние науки на развитие философии (выступая здесь явным оппонентом антиинтеракционистской концепции). Эта внутренняя взаимосвязь и Ввзаимовлияниеtфилософиииин науки возможно1потому, что,ннесмотрянна различие философского и конкретно-научного познания, оба они принадлежат к одному типу познания, а именно к рациональному способу решения своих проблем (получения объективного знания о мире – в случае науки и построения обоснованных мировоззренческих концепций – в случае философии). Более того, при разработке философского учения о мире, при построении философской онтологии рациональная философия обязана учитывать опыт научного познания действительности. Конечно, при этом, философия обязана принимать во внимание историческую изменчивость содержания науки, а также наличие в ней альтернативных теорий, концепций и направлений. При разработке философского учения о бытии философия не должна сводить его только к научным воззрениям своего времени, к их некритическому повторению и воспроизводству. Для философии опыт научного познания мира, при всем уважении к нему, является лишь средством решения ее собственных онтологических и мировоззренческих задач. Это решение может быть плодотворным с точки зрения философской рациональности только тогда, когда: а) опирается на опыт не только науки, но и на совокупный опыт всей культуры, б) является результатом критической рефлексии, в) всегда «привязывается» к основным ценностным ориентирам человеческого существования в мире [17].
Как и всякое диалектическое единство, взаимосвязь философского и конкретно-научного знания является опосредованной таким видом знания, которое сочетает в себе элементы как философского, так и конкретно-научного дискурса. Таким видом знания являются: а) философские основания науки, б) научные основания философии, в) философия науки в целом как особая область междисциплинарного («кентаврового») знания. С логико-методологической точки зрения философские основания науки являются особым видом интерпретационных предложений, связывающим воедино философские и конкретно-научные понятия и термины. В науке их аналогом выступает эмпирическая интерпретация теории как особое множество высказываний, получившее в философии науки название «предложений соответствия» или «редукционных предложений» (Р. Карнап). Как ммежду эмпирическим знанием и научной теорией, так и между философией и наукой не существует отношения взаимно однозначного соответствия. Как известно, одна и та же научная теория может иметь несколько различных эмпирических интерпретаций (и соответственно областей своего применения и проверки). С другой стороны, одни и те же эмпирические данные («факты») могут быть объяснены с позиций различных и даже альтернативных научных теорий. История науки и ее современное состояние дают многократное тому подтверждение. Точно такое же неоднозначное соответствие имеет место и между философией и наукой. Никакое конкретно-научное знание не может непосредственно выступать ни подтверждением, ни опровержением какой-либо философии, а только после его философской интерпретации. Установление взаимосвязи между определенной философией и определенными научными теориями – важная и трудная задача философии науки. Одним из гглавныхflдостоинств диалектической концепции соотношения философии и науки является то, что в ее рамках удается, с одной стороны, синтезировать основное положительное содержание альтернативных ей концепций соотношения философии и науки, рассмотренных выше, а, с другой, избежать их недостатков, заключающихся в абсолютизации их сторонниками реальных моментов взаимоотношения философии и науки [18] .
Большой вклад в развитие диалектической концепции соотношения философии и науки внесли и вносят классики ннауки –с создатели4фундаментальныхннаучныхттеорийииннаправлений. Например, Ч. Дарвин, А. Лавуазье, Г. Гельмгольц, И. М. Сеченов, И. П. Павлов, А. Пуанкаре, А. Эйнштейн, Д. Гильберт, В. Гейзенберг, Н. Бор, В. И. Вернадский, Л.С. Выготский, А. Н. Леонтьев , И. Пригожин, Н. Н Моисеев , Ст. Хокинг и др.[17].
С одной стороны, для каждого из них было очевидно, что наука находится вне философии и имеет самостоятельный статус. С другой стороны, они сознавали, что создание новых фундаментальных научных теорий и научных направлений всегда связано с выходом за границы существующей науки, с пересмотром устоявшихся в ней взглядов. Поэтому всячески подчеркивали необходимость взаимодействия философии и науки и интенсивного обмена их когнитивными ресурсами. Этот обмен одинаково важен как для развития науки, так и для развития философии. Это составляет сердцевину развиваемой нами позитивно-диалектической концепции взаимосвязи философии и науки. Позитивной потому, что эта концепция опирается на реальное содержание науки и ее истории, диалектической, потому что взаимосвязь философии и науки понимается как диалектическое противоречие философии и конкретных наук как во многом не просто различных, но и противоположных видов знания. Вот основные положения (аксиомы) позитивно-диалектической концепции:
-
1. Научное знание отличается от всех других видов человеческого знания (обыденного, художественного, практического, религиозного, мифологического) не каким-то одним свойством, а системой таких свойств. Необходимыми свойствами научного знания являются: объектность, определенность, обоснованность (эмпирическая и/или теоретическая), истинность, проверяемость, общезначимость, полезность (теоретическая или практическая) [15].
-
2. Научное знание в любой из конкретных наук имеет уровневую организацию и состоит из четырех уровней: чувственное, эмпирическое, теоретическое и метатеоретическое знание [16].
-
3. Научное познание на каждом уровне имеет конструктивную природу, являясь творческой деятельностью по созданию особой когнитивной реальности на каждом уровне. Трактовка научного познания как проектно-конструктивной деятельности по созданию научной реальности, ее описанию и применению является альтернативой трем ддругим концепциям научного познания: теории отражения, эмпиризму (позитивизму), априоризму [21].
-
4. Переход от низкого к более высокому уровню научного знания является не логическим обобщением первого, а его творческой переработкой с добавлением нового содержания.
-
5. В науке не существует универсального метода получения и обоснования знания. Методы научного познания многообразны и всегда привязаны к онтологии уровня научного знания и его функциям. Основным критерием эффективности любой когнитивной технологии в науке является ее результативность в конструировании нового знания и его применении [21].
-
6. В целом система научного знания является суперсложной и плюралистической по своему содержанию совокупностью областей, уровней, видов и единиц научного знания.
-
7. Главным субъектом познания в современной науке является не отдельный ученый, а дисциплинарное научное сообщество.
-
8. Научное познание имеет социальный характер, оно зависит не только от профессионализма конкретного научного сообщества, но и от потребностей общества своего времени [19].
-
9 . Коммуникационные (субъект-субъектные) отношения между членами научного сообщества играют не менее важную роль в процессе научного познания и оценке различных единиц научного знания, чем субъект-объектные отношения между учеными и познаваемой ими реальностью.
-
10 . Все научные истины по способам своего получения и легализации являются продуктом консенсуса научного сообщества.
-
11. Научное познание обладает значительной степенью независимости от конкретных социальных условий, его имманентная цель - конструирование научной реальности как наиболее определенной и очевидной для сознания и потому выполняющей функцию эталона по отношению к объективной реальности, ее описанию и объяснению.
-
12 . Развитие научного знания происходит в соответствии с диалектическими законами: наличием соперничающих концепций научной реальности, преемственности научного знания на эволюционном этапе развития и качественных скачков в периоды научных революций и Ссмены еее ппрежни фундаментальных (парадигмальных) теорий.
-
13. Все эпистемологические характеристики научного знания – истинность, доказательность, верифицируемость, общезначимость, объективность, определенность являются относительными и зависят от когнитивной системы отсчета, применяемой при оценке каждого из этих свойств [21].
-
14 . Важным условием функционирования и развития научного знания является постоянная философская рефлексия над ним, его структурой, содержанием и динамикой.
Заключение
Анализ соответствия основных историко-философских концепций взаимосвязи философии и науки (метафизической, позитивистской, дуалистической, диалектической) как истории реальной науки, так и ее современного состояния, убедительно свидетельствует о том, что лишь диалектическая концепция взаимосвязи философского и конкретно-научного знания выдержала проверку временем и наилучшим образом соответствует как структуре науки, так и ее динамике. Посредствующим звеном между философией и наукой является такая особая единица знания как философские основания науки. Это более общее знание, чем конкретно-научное знание, включая фундаментальные научные теории, но вто же время менее общее, чем чисто философское знание онтологического и гносеологического характера. Потребность в таком междисциплинарном знании как философские основания науки диктуется, прежде всего, стремлением культуры к целостности и единству всех составляющих ее элементов, к числу наиболее важных из которых относятся философия и наука [22].