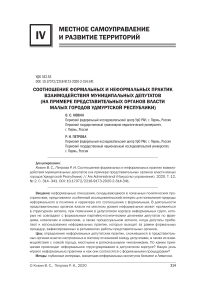Соотношение формальных и неформальных практик взаимодействия муниципальных депутатов (на примере представительных органов власти малых городов Удмуртской Республики)
Автор: Ковин В.С., Петрова Р.И.
Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi
Рубрика: Местное самоуправление и развитие территорий
Статья в выпуске: 2 т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение: неформальные отношения, складывающиеся в локальных политических пространствах, представляют особенный исследовательский интерес для понимания природы неформального в политике и характера его соотношения с формальным. В деятельности представительных органов власти на местном уровне неформальное может проявляться в структурном аспекте, при появлении в депутатском корпусе неформальных групп, которые не совпадают с формальным партийно-политическим делением депутатов по фракциям, комитетам и комиссиям, а также процессуальном аспекте, когда депутаты прибегают к использованию неформальных практик, которые выходят за рамки формальных процедур, зафиксированных в регламентах работы представительных органов. Цель: определение неформальных депутатских практик, сложившихся в представительных органах власти и встроенных в систему отношений между депутатами, а также их взаимодействия с главой города, местными и региональными чиновниками. По каким принципам происходит неформальное структурирование в депутатском корпусе? Какую роль играют неформальные практики и как они соотносятся с формальными процедурами? Методы: глубинные интервью, концепция неформальных институтов Хелмеке и Левитски. Результаты: определены формальные и неформальные структуры в городских думах и выявлены неформальные практики, которые используются депутатами дум, местными чиновниками. Выводы: структурная формальная партийно-политическая и организационная фрагментация городских дум и советов усложняется наличием неформальных групп. Формальные и неформальные практики могут по-разному сочетаться в различных формальных структурах в рамках одного представительного органа. Неформальные практики могут дополнять работу формальных; поддерживать существующие формальные процедуры, но при этом не улучшать их качество. Существуют неформальные практики, которые становятся альтернативой формальным.
Неформальные практики, локальная политика, муниципальные депутаты, представительные органы власти, удмуртская республика
Короткий адрес: https://sciup.org/147246660
IDR: 147246660 | УДК: 342.53 | DOI: 10.17072/2218-9173-2020-2-314-341
Текст научной статьи Соотношение формальных и неформальных практик взаимодействия муниципальных депутатов (на примере представительных органов власти малых городов Удмуртской Республики)
Феномен неформальных практик является весьма распространенным явлением в политических пространствах локальных сообществ. Несмотря на то, что неформальные взаимодействия существуют фактически в каждом политическом институте и проявляются на каждом уровне власти, неформальные отношения, складывающиеся в локальных политических пространствах, представляют особенный исследовательский интерес для понимания природы неформального в политике и характера его соотношения с формальным . В условиях физически ограниченной территории локального политического пространства возникают тесные персонифицированные отношения, основанные на личных связях, что становится основанием для попыток обойти формальные (бюрократические) процедуры, прибегнув к неформальным практикам (Юркова, 2016, с. 50).
Другая особенность локального политического пространства связана с его зависимостью от политических пространств более высокого уровня – регионального и федерального. Несмотря на тенденции иерархизации и попытки центра унифицировать политические отношения по вертикали, локальные политические акторы зачастую сохраняют определенные возможности для маневров при принятии некоторых решений. На сохранении относительной автономии локальной политики сказывается усиливающийся разрыв между тремя уровнями власти и ограниченные возможности «партии власти» влиять на местную политику (Подвинцев, 2010; Wollmann and Gritsenko, 2008; Golosov et al., 2016). Возможность маневрирования создает дополнительный потенциал для использования неформальных практик и взаимодействий на локальном уровне.
В данном исследовании под формальными практиками вслед за Г. Хел-меке и С. Левитски понимаются регламентированные правила, нормы и процедуры, «которые создаются, становятся известными и насаждаются через каналы, общепризнанные в качестве официальных». В свою очередь, неформальные практики – это «принятые в обществе, обычно неписаные правила, создающиеся, становящиеся известными и насаждающиеся вне официально санкционированных каналов» (Хелмеке и Левитски, 2007, с. 192).
МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ
В целом исследование неформальных политических практик, неформального в политике является одним из перспективных направлений в зарубежной и отечественной политической науке.
Одними из первых к проблеме роли неформального в социальноэкономических процессах обратились западные экономисты – это работы представителей так называемой «неформальной экономики», в которых изучались ее границы и формы проявления (Аллен, 1999; Гершуни, 1999; Кастельс, 2000; Tokman, 1978; Weeks, 1975; Сото де, 2007). В политической науке исследования неформальных институтов и практик связаны с именами неоинституционалистов. Так, Д. Норт рассматривал влияние институтов, в том числе неформальных, на экономические процессы (Норт, 1997). Немецкие ученые В. Меркель и А. Круассан анализировали роль формальных и неформальных политических институтов в процессе трансформации политической системы. При этом они оценивали «неформальность» исключительно как дефектный элемент политических процессов (Меркель и Круассан, 2002). Попытку преодолеть односторонний подход к пониманию неформального сделали Г. Хел-меке и С. Левитски, которые выделили четыре типа неформальных институтов и возможных моделей соотношения формального и неформального (Хелмеке и Левитски, 2007).
Представляют интерес и исследования российских ученых, которые анализируют неформальные практики и взаимодействия российских элит разного уровня. Механизмы функционирования властных элит, применяемые ими неформальные практики находятся в фокусе внимания А. Б. Дау-гавет (Даугавет, 2003; Даугавет и др., 2016), Ж. Т. Тощенко (Тощенко, 1999), В. Я. Гельмана (Гельман, 2003; Гельман и Рыженков, 2010; Гельман, 2019), О. В. Гаман-Голутвиной (Гаман-Голутвина, 2016), Н. В. Колесник (Колесник, 2017). Изучению неформальных политических практик постсоветской элиты посвящены работы А. В. Леденевой (Леденева, 1997), которая дает определение такой неформальной практики, как «блат». М. Н. Афанасьев рассматривает «клиентелизм» как неформальную практику, оставшуюся от советской государственности и проявившуюся в современной политической системе (Афанасьев, 2000).
Особенности неформальных практик на региональном и локальном уровне с фокусом на исследовании патрон-клиентарных отношений, лоббирование интересов бизнеса, неформальных социальных сетей анализируются в работах А. Е. Чириковой, В. Г. Ледяева (Чирикова, 2014; Чирикова, 2015; Чирикова и Ледяев, 2017; Чирикова и Ледяев, 2019; Ledyaev and Chirikova, 2019; Ledyaev and Chirikova, 2020), А. В. Дахина, А. С. Макарычева (Дахин и Макарычев, 2006), И. В. Мирошниченко, Е. В. Морозовой (Мирошниченко и Морозова, 2017) и др.
Потенциал и причины распространения неформальных практик в системе муниципального управления на локальном уровне рассматривали белгородские ученые В.П. Бабинцев и О.Н. Юркова (Бабинцев и Юркова, 2017; Юркова, 2016). По результатам социологических исследований, проведенных в городских округах и районах Белгородской области, они пришли к выводу, что наиболее часто неформальные практики применяются в сфере кадровой политики, где широко используется протекция при приеме на муниципальную службу. Основными причинами, способствующими распространению неформальных практик, они считают попытки обойти бюрократические процедуры и поиск возможностей эффективно решать местные вопросы (Бабинцев и Юркова, 2017, с. 12–14).
Несмотря на то, что феномен неформальных практик является актуальным направлением исследований в современной отечественной политической науке, неформальные практики на местном уровне редко становятся предметом анализа. Акцент делается на выявлении неформальных механизмов функционирования власти на ее национальном и региональном уровне. Изыскания, посвященные самой локальной политике, в логике ответа на исследовательский вопрос «Кто правит?» в большей степени ориентированы на изучение феномена исполнительной власти – глав муниципалитетов: их кадрового состава, последствий применения тех или иных способов замещения должностей, а также характера их отношений с региональной властью, степени самостоятельности и т. д. (Шкель и др., 2019; Панов и Петрова, 2019). Органы местной представительной власти, в силу их, безусловно, меньшей значимости и влиятельности на протекание политических процессов и принятие решений, интересуют исследователей в основном со своей чисто формальной стороны – партийно-политического и профессионального состава как отражения процессов политической динамики, происходящих на более высоком уровне.
Таким образом, данное исследование призвано выявить и подвергнуть концептуальному анализу те неформальные практики, которые складываются внутри представительных органов власти муниципального уровня.
Следует уточнить, что неформальное в деятельности представительных органов власти на местном уровне может проявляться в структурном и процессуальном аспектах. В первом случае речь идет о формировании в депутатском корпусе неформальных групп, которые не совпадают с формальным партийно-политическим и организационным делением депутатов по фракциям, комиссиям и рабочим группам. Во втором – о выработке неформальных механизмов взаимодействия между самими депутатами и между депутатами и иными властными акторами (главами, регионалами), которые выходят за рамки формальных процедур, зафиксированных в регламентах работы представительных органов.
Фокус нашего исследования направлен на определение неформальных депутатских практик (неформальных депутатских структур и механизмов взаимодействий), сложившихся в представительных органах власти и встроенных в систему отношений между депутатами, а также их отношений с главой города, местными и региональными чиновниками. По каким принципам, с точки зрения самих депутатов, происходит неформальное структурирование в депутатском корпусе? Наряду с использованием формальных процедур взаимодействия и согласования интересов, правил проведения сессий и комитетов, какие неформальные практики и взаимодействия складываются, к которым прибегают местные депутаты и чиновники? Какую роль играют
Ковин В. С., Петрова Р. И. Соотношение формальных и неформальных практик взаимодействия муниципальных депутатов... неформальные практики и как они соотносятся с формальными процедурами?
В качестве теоретической рамки исследования наиболее удачной нам видится концепция, предложенная Г. Хелмеке и С. Левитски (Хелмеке и Левит-ски, 2007). В отличие от преобладающего в этой исследовательской области понимания неформального как реакции на неэффективное или нестабильное функционирование системы, указанные авторы предлагают более разносторонний подход к проблеме определения и соотношения формальных / неформальных институтов и практик.
Хелмеке и Левитски оценивают соотношение формального и неформального с помощью двух измерений (Хелмеке и Левитски, 2007, с. 195). Первое измерение – это определение последствий работы формальных и неформальных институтов, оценка степени совпадения результата работы формального и неформального. Следуя дуалистической логике понимания местного самоуправления (Лаптева, 1998, с. 145) как институции, которая обеспечивает эффективное двустороннее взаимодействие между обществом и государством, образуя тем самым единое пространство публичной власти, мы считаем, что результатом работы депутатов, местных чиновников как посредников является принятие общественно важных решений на благо местных жителей. В этом плане основной смысл всех формальных процедур заключается в принятии мер для обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан. Если он не нарушается, то, соответственно, результат работы формального и неформального совпадает. Это значит, что при использовании как формальных процедур, так и неформальных практик результатом взаимодействий представителей местной власти будут принятые во благо местных жителей решения.
Второе измерение связано с эффективностью формальных процедур, которое выражается через соблюдение на практике принятых на бумаге процедур и правил. Эффективным признается процедура, где формальные правила не нарушаются. А значит, в нашем случае эффективной работой депутата будут проведенные сессии и комитеты, которые проходят без нарушения процедуры и не противоречат букве формальных правил.
Исходя из четырех возможных комбинаций этих двух измерений, по-разному складываются варианты взаимоотношения формального и неформального. Это дает основания выделить четыре возможных типа неформальных практик (Хелмеке и Левитски, 2007, с. 195–199). Первый тип – дополняющие. Такого рода практики гармонично работают совместно с формальными процедурами и даже в какой-то степени поддерживают их существование. При этом работа формальных процедур признается эффективной, а это значит, что все официальные правила соблюдаются, а результат от работы формального и неформального совпадает. Дополняющие неформальные практики повышают эффективность формальных процедур, мотивируя соблюдать правила, существующие на бумаге. Второй тип – аккомодационные неформальные практики, которые обеспечивают сочетание эффективных формальных институтов и несовпадающих последствий от применения неформальных процедур. Иначе, когда формальный институт признается эффективным, а результат от использования формального и неформального не совпадает. Подобные институты не всегда повышают эффективность формальных практик, но в то же время «могут укрепить их, заглушая призывы к переменам» (Хелмеке и Левитски, 2007, с. 196). Не нарушая формальных правил, неформальные практики, таким образом, поддерживают постоянство системы. Неэффективные формальные процедуры и несовпадающие последствия образуют третий тип – конкурентные неформальные практики. Формальные правила и нормы выполняются несистематически, что приводит к их нарушению теми или иными акторами. В подобном случае неформальные практики начинают соперничать с формальными. К таким практикам относятся клиентелизм, патримониализм, клановая политика и коррупция. И, наконец, четвертый тип – замещающие неформальные практики. Неформальные практики в этом случае работают вместо формальных процедур, т. е. обеспечивают необходимый результат, который в силу неэффективности формального института не может быть достигнут.
Эмпирической базой исследования стали представительные органы малых городов Удмуртской Республики, где в августе – сентябре 2019 года была проведена серия (всего 25) глубинных полуструктурированных интервью у не менее, чем трех местных депутатов в каждом поселении, а также экспертных интервью у удмуртских ученых, журналистов, политиков. Выбор территории для полевого исследования объясняется тем, что всего в Удмуртской Республике существует пять так называемых «малых городов» (Глазов, Сарапул, Воткинск, Можга, Камбарка), что позволяет в рамках одного исследования охватить феномен представительного органа власти в поселениях определенного типа. Для подобного рода малых промышленных городов характерно, с одной стороны, наличие крупных градообразующих предприятий, с другой – разнообразие и гетерогенность социально-экономического состава территории (малый и средний бизнес, бюджетная сфера, сфера услуг, общественные институции и т. п.), что находит свое отражение в неоднородном составе местного представительного органа1. Причем эти города обладают определенного рода ресурсами, которые позволяют местной элите рассчитывать на сохранение некоторой степени самостоятельности в решении коренных вопросов локальной политики или по крайне мере на учет ее мнения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
До последнего времени принятое административно-территориальное деление республики (пять городских округов – Ижевск, Глазов, Сарапул, Воткинск, Можга и 25 муниципальных районов, к 2015 году статус городского поселения сохранила только Камбарка) отличалось стабильностью и оставалось почти неизменным (Бехтерева, 2012). В 2018–2019 годах с приходом новой администрации ситуация стала меняться. Уже объявлено о начале объединения городского округа Можга и Можгинского муниципального района.
Ведутся разговоры об объединении других городских округов и районов. В Можге и Камбарке председатели думы уже переведены на работу на неосвобожденной основе.
Формальные и неформальные структуры в городских думах малых городов Удмуртии
«Власть» и «оппозиция», «фракции» и «индивидуалы»
Формально-политическая фрагментация среди депутатского корпуса малых городов Удмуртии, сложившаяся в них после местных выборов 2015 года, выглядит весьма типично для многих российских муниципалитетов. Абсолютное большинство в думах городских округов имеет партия «Единая Россия» как за счет депутатов, избранных по мажоритарным округам, так и за счет лидерства, полученного по партийным спискам. Выдвиженцы оппозиционных партий проходят в легислатуры в основном за счет голосования избирателей по пропорциональной части. Некоторые отличия партийного представительства в городах связаны с их историческими и электоральными традициями, активностью местных и региональных отделений партий, наличием или отсутствием протестной повестки и харизматичных активистов.
«Единую Россию», безусловно, можно считать «партией власти» в малых городах республики. В Сарапуле ей принадлежит 22 из 28 мест в думе, в Воткинске – 22 из 25, Глазове – 19 из 26, Можге – 17 из 26. Из парламентских оппозиционных партий наибольшей поддержкой у избирателей пользуется КПРФ – по два места в Сарапуле, Воткинске и Можге и пять мест в Глазове. ЛДПР – по одному месту в Сарапуле, Глазове и Воткинске и три места в Можге. «Справедливая Россия» представлена лишь одним депутатом и только в Сарапуле. Среди непарламентских партий в малых городах Удмуртской Республики представлены: депутат от «Патриотов России» в Сарапуле; депутат, избранный от «Коммунистов России», в Глазове; два депутата от «Родины» в Можге. В последнем случае в раскрутку местного отделения партии «Родина» вложилась неформальная группа местных бизнесменов и активистов, которые заявляют о своих амбициях стать ведущей оппозиционной силой в городе.
Самовыдвиженцев крайне мало среди депутатов малых городов Удмуртии: два в Можге и один в Сарапуле. В Камбарке лишь два депутата формально представляют партию «Единая Россия», остальные избраны в качестве самовыдвиженцев, что связано с кризисом власти 2018 года, который привел к досрочному роспуску предыдущего состава совета депутатов.
Проведенные в городах интервью с депутатами из разных фракций и экспертами свидетельствуют, что реальная картина партийно-политической фрагментации в малых городах Удмуртии выглядит более сложной, что осознается и самими депутатами. Единство и сплоченность депутатов «Единой России» формально проявляется при голосовании по наиболее значимым вопросам (принятие и корректировки бюджета, кадровые назначения – избрание главы города и спикера собрания, судьба муниципальной собственности) и обеспечивается фракционной дисциплиной. Однако среди единороссов существуют группировки, различия в позициях, которые могут носить не менее, а иногда и более острый характер, чем с депутатами из других фракций. Как правило, эти различия гасятся внутри фракции и комитетов за счет вырабатываемых компромиссов и не выплескиваются на пленарные заседания. Но это удается не всегда. И тогда возможно блокирование между членами фракции «Единая Россия» и депутатами от других партий. С другой стороны, единство и «оппозиционность» других фракций также относительны. Мера оппозиционности депутатов, избранных от одной и той же партии, может весьма существенно отличаться в зависимости от целей их избрания, статуса и амбиций.
Среди представительных собраний малых городов Удмуртии наиболее фрагментированными, более конкурентными и дискуссионными площадками представляются легислатуры Глазова и Можги, а более монолитными – Воткинска и Сарапула. Для депутатов-единороссов основным консолидирующим институтом является фракция и фракционная дисциплина: « Но если мы провели заседание фракции, допустим, мое мнение не прошло, но большинство приняло другое решение, то понятно, что мы голосуем консолидировано. Так и должно быть, если ты от партии шел на выборы... когда из 28 депутатов 22 депутата от “Единой России” больших разногласий быть не может » (Сарапул)2; « Мы же собираемся своей фракцией, голосуем, сколько за – против. Если большинство за, то мы уже выходим с решением нашей фракции, что “Единая Россия” за принятие этого решения » (Можга). При этом нередко фракционным собраниям предшествуют предварительные неформальные консультации для выработки позиции: « В партии (“Единая Россия”) , например, проводятся какие-то (предварительные) собрания, меня туда не всегда зовут, потому что я бью туда, куда им не нравится. Когда надо принять определенное решение, они быстро всех собирают» (Воткинск).
Однако и среди единороссов, особенно из числа молодых предпринимателей, встречаются те, которые могут себя вести относительно независимо: « Я могу с оппозицией против своих идти, без проблем. Буквально недавно, когда продажа электросетей стояла, нас собрали на фракцию. Вроде как бы давайте “Единой Россией” проголосуем консолидировано – я не стал… Я буду голосовать так, как я хочу » (Воткинск).
Монолитность «Единой России», согласно высказываниям респондентов, весьма относительна. Фракции правящей партии состоят из представителей очень разных групп интересов. Консолидация мнения единороссов является главным способом, но и главной проблемой при принятии нужных местной и региональной администрации решений: «Я не всегда бываю сторонником фракционного голосования, я говорю, что это неправильно» (Глазов). Если не удается достичь большинства на стадии работы в комитетах и на заседании фракции «Единая Россия», то вопрос, как правило, снимается с рассмотрения на сессии и отправляется на доработку. Открытые расколы среди членов правящей партии в городских думах, как правило, были связаны с непроработанными кадровыми и инфраструктурными решениями, предложенными региональной властью. Так, например, случилось в Можге во время выборов главы города, когда республиканская администрация, как считается, продавливала кандидата из числа депутатов-коммунистов госсовета;
в Воткинске во время выборов председателя думы. Среди единороссов часто встречаются разногласия в выборе наиболее эффективного способа управления муниципальным имуществом, например водоканалом, электросетями.
Нужно учитывать, что депутатами от «Единой России» зачастую являются предприниматели и топ-менеджеры предприятий, привыкшие к самостоятельности и инициативности в своем бизнесе. Некоторые из них с трудом приемлют командно-административные и строго формализованные методы руководства местным отделением партии и, соответственно, партийной фракцией в думе, установленные некоторыми главами городов, как, например, это произошло в Можге. По словам респондента из числа депутатов-предпринимателей, « ранее была нормальная деятельность партии “Единая Россия” в Можге… какие-то инициативы были, собрания, было интересно. Вроде как это такой кружок… При нынешнем мэре, который, разумеется, стал председателем “Единой России”, заседание политсовета проходит… за пять минут – не рассказать, что будет, не предложить какие-то инициативы. Во всех остальных городах идет очень серьезная инициатива по “Единой России”… интересно жить, а здесь ничего не делается, здесь все заняты проблемами ЖКХ ». Неформальные, «кружковые» взаимоотношения для подобного рода депутатов оказываются не менее значимыми, чем формальный депутатский статус, и исключение их из неформальных взаимодействий снижает интерес к депутатской деятельности вообще. Неформальные взаимодействия внутри правящего большинства, предваряющие фракционную работу, оказываются как способом поддержания фракционного единства для «партии власти», так и механизмом поддержания статусности для ее депутатов.
Респонденты отмечают, что наиболее оппозиционную роль во всех думах играют депутаты от КПРФ, причем эта роль стала привычной и зачастую оценивается другими депутатами как малоконструктивная: «всегда голосуют против» (Сарапул), «наша работа в думе – это какая-нибудь грязь от коммунистов, причем коммунисты пытаются вытащить стороны, всем известные… и об эффективности управления заговорить…» (Можга).
В свою очередь, депутаты-коммунисты отмечают, что им приходится нелегко в думе. С ними редко кто консолидируется, к неформальным встречам не привлекают: « я КПРФ, поэтому я по этим причинам либо сознательно не вхожу в эти течения (группы интересов среди депутатов) , либо меня не приглашают. Я всегда старался голосовать без каких-либо влияний, опираясь только на свою точку зрения. Очень часто я голосую против и мой голос единственный » (Воткинск).
В силу низкой представленности оппозиционных партий в составах городских дум, между ними крайне редко возникают коалиции. Объединение оппозиции ничего не даст и не сможет поколебать большинства «Единой России», поэтому они предпочитают действовать самостоятельно. Как выразился один из депутатов-оппозиционеров в Воткинске, « надо чтобы системные оппозиционные партии составляли хотя бы 50 процентов, чтобы в противовес “партии власти” хоть что-то могли сказать ».
Депутаты-«индивидуалы» из числа оппозиционеров разрывают связь с фракциями по причине неэффективности своего участия в данном инсти- туте. Фракция зачастую принимает противоположное им решение. Поэтому они предпочитают заявлять о своей позиции индивидуально и напрямую на других формальных площадках – в комитетах и на пленарках.
Составы оппозиционных фракций также разнородны, поскольку отделениям партий, нуждающимся в ресурсах, приходится еще и идти на сотрудничество с местными предпринимателями и группами интересов в обмен на предоставление им мест в списках, о чем респонденты говорят весьма неохотно. Они отмечают либо «странности» в голосовании таких «индивидуалов» по вопросам, затрагивающим прежде всего распределение бюджетных средств, либо их излишне «скромное» поведении в думе, не свойственное остальным представителям оппозиционной фракции.
Появление в думе активных «внефракционных» депутатов, например из числа самовыдвиженцев, может привести к формальному переструктурированию легислатуры, поскольку депутаты-«индивидуалы» обладают значительно меньшими формальными возможностями в сравнении с фракциями. Так произошло в глазовской думе пятого созыва, где по инициативе таких внефракционных депутатов была зарегистрирована депутатская группа «горожане», в противовес другой «межфракционной» группе – «заводчане», объединившей депутатов из разных партий, связанных с Череповецким металлургическим заводом.
«Старожилы» vs «новички»
Если деление на партийные фракции и, как следствие, на «власть» и «оппозицию», «фракционных» и «нефракционных» депутатов имеет под собой формальную основу, то интервью также позволили выделить чисто неформальную фрагментацию депутатов на «старожилов» и «новичков». Причем речь идет не только о противопоставлении переизбравшихся инкумбентов из предыдущего созыва, но и «опытных» местных политиков вообще (бывших глав, чиновников, депутатов позапрошлых созывов, директоров муниципальных предприятий и т. д.) и условно «молодых» или «неопытных» политиков вне зависимости от их возраста – тех депутатов, которые впервые успешно заявили о своих политических амбициях.
Преемственность и стабильность действующих составов городских дум находится примерно на одном уровне: 35–45 % избранных депутатов были депутатами предыдущего созыва (Сарапул – 12 чел., Глазов – 9, Воткинск – 10, Можга – 10)3. Отличие Камбарки проявляется в том, что на досрочных выборах 2018 года произошло практически полное обновление депутатского корпуса. Только один депутат входил в состав предыдущего, распущенного, городского собрания. В каждом собрании имеется два–три депутата, которые переизбираются на протяжении нескольких созывов.
Больше половины составов действующих депутатов – «новички», что считается нормальным уровнем ротации для местных легислатур. В интервью респонденты отмечали наличие предыдущего опыта депутатской деятельности в качестве значимого фактора и проводили различия между «старожилами» и «новичками».
Анализ ответов респондентов из числа депутатов городских легислатур позволяет предположить, что большинство из числа «старожилов» выступают за поддержание сложившейся ситуации в городе, сохранение статус-кво. Это касается как распределения власти среди правящей в городе коалиции, так и второстепенного места городского собрания в локальной политической системе. Большая часть «опытных» депутатов ориентирована либо на мнение главы города и администрации, либо на позицию градообразующего предприятия и крупного бизнеса. Такие депутаты, по мнению своих «молодых» коллег, избираются, как правило, не по личной инициативе, а по предложению городского или заводского «начальства». На заседаниях комитетов, комиссий и во время сессий они в основном пассивны и поддерживают предложения администрации.
Респонденты из числа «старожилов» согласны, что опыт и возраст имеют значение, правда с обратным значением. Они якобы способствуют большей активности депутатов. Отмечалось, что возраст, опыт и прежний статус позволяют некоторым депутатам занимать более активную позицию по сравнению с многими «новичками» из числа бизнесменов, которые, обладая финансовой независимостью, могли бы вести себя более активно: « Я бы сначала поделила депутатов на возрастные (группы) . Возраст имеет значение… У нас в глазов-ской городской думе есть солидные по возрасту депутаты » (директор школы, бывший мэр, пенсионер, ветеран завода), которые позволяют « себе высказывать все откровенно главе. … Это возраст, в котором уже нечего терять. Они более открытые, откровенные и не боятся высказывать свои мысли. Может, не всегда по делу, но сам факт остается – у них есть какое-то мнение. Оно личное и индивидуальное ».
В то же время в каждой из легислатур есть небольшая, но очень пестрая по составу группа депутатов, которые, как правило, были избраны первый или второй раз, но которых не устраивает сложившийся в городе и городской власти порядок вещей. Они выступают за его обновление, более интенсивное и эффективное экономическое развитие.
Естественно, что в каждом созыве городских советов появляются депутаты, избравшиеся впервые. Однако общая динамика эволюции состава депутатов органов местного самоуправления с конца 1990-х по конец 2010-х годов несколько нивелировала статусные различия между «старожилами» и «новичками». Как отмечается в различных исследованиях, в 2000-е годы заметную роль в местных легислатурах играли бонзы крупных градообразующих предприятий (Витковская и Рябова, 2011, с. 58; Рябова, 2019, с. 105). Как вспоминал свой первый созыв один из нынешних «старожилов» глазовской думы, а тогда простой учитель: «Зашел в зал (заседаний думы), там были начальники цехов, предприятий, производственники». Сейчас заводской директорат, как правило, делегирует в горсоветы представителей среднего управленческого звена, а большинство «новичков» зачастую сами являются владельцами малого бизнеса. Значительной разницы по социопрофессинальному составу между «старожилами» и «новичками» в настоящее время уже не отмечается, хотя среди переизбранных депутатов чаще фигурируют выходцы из администрации, крупных предприятий, муниципальных учреждений и лидеры фракций. Более высокая ротация отмечена среди местных предпринимателей и рядовых партийцев. Среди новоизбранных немало молодых предпринимателей и «общественников».
Некоторые респонденты, особенно среди предпринимателей, отмечали явный поколенческий разрыв среди депутатов. «Молодые» депутаты, по собственному мнению, как правило, более активны и инициативны, склонны к поддержке новых форм работы с избирателями и властями (общественные проекты, гранты, инициативное бюджетирование), более критично настроены к предложениям администрации, в том числе кадровым. Депутаты-«старожилы» имеют более тесные связи с администрацией, критично настроены к активности «молодых» коллег, меньше склонны к новациям, привыкли получать ресурсы на решение проблем в своем округе через личные связи в администрации или за счет собственных средств. Как отметил один из «молодых» депутатов: «… в их голове сидит подсознание: а мы делали вот так и мы не хотим делать по-другому. Они думают, что так, как они делали всю жизнь, что так и должно быть, но так не бывает, мир меняется, он не стоит на месте » (Можга). Причем именно среди «новичков» больший отклик находят «технократические» методы управления, предлагаемые новым руководством республики во главе с А. Бречаловым: « Появился новый стиль управления, тогда такого не было » (Глазов).
В Воткинске респонденты также отметили наличие поколенческого разрыва среди депутатов. Здесь он, скорее, связан с более критическим отношением молодых депутатов к стилю управления думой со стороны ее руководства, а также к деятельности администрации, которая опирается на депутатов-«старожилов»: « Они (администрация и глава города) по старинке работают, поэтому ничего в муниципалитете не меняется. Нужна новая молодая кровь, понимающая, как работают все бизнес-процессы, как относиться к рабочему процессу ».
С другой стороны, «старожилы» весьма скептически относятся к активности «новичков»: « В начале созыва да (есть различия) , у них горят глаза, шашками наголо, но (затем) они сталкиваются с трудностями и амбиции утихают. Начинается понимание, когда надо работать, как представить интересы своего округа. Понимают всю реальность или то, что деньги найти на реализацию целей просто нереально » (Сарапул).
Одно из значимых «стилистических» различий между «молодыми» и «опытными» депутатами отмечается в методах работы с избирателями. Особенно часто об этом упоминали депутаты-предприниматели, обладающие определенными финансовыми ресурсами. Многие респонденты с сожалением отмечали, что избиратели очень часто обращаются к ним с материальными просьбами, просят денег, иногда даже на личные нужды. Они видят в этом особенность именно малых городов, где население живет более бедно и существует более тесная связь между избирателями и депутатами: « В больших городах этого нет, а в малых городах это да, присутствует…. Они (избиратели) почти всех нас знают. Хотя мы, когда встречаемся с жителями, объясняем суть нашей работы (что нет личных средств на ремонт дорог)» (Можга). Депутаты-«старожилы», которые привыкли к таким просьбам, считают
Ковин В. С., Петрова Р. И. Соотношение формальных и неформальных практик взаимодействия муниципальных депутатов... их одной из составляющих депутатской деятельности и стараются помочь, зачастую из собственных средств: « Надо кому-то дрова, кому-то денег не хватает человеку… Да, конечно, приходилось, помогали. Я для этого и депутат. Я должен помогать » (Сарапул).
Депутаты из числа молодых предпринимателей крайне негативно высказывались о такой практике. Считают, что это старшие коллеги способствовали развитию такого «потребительского» отношения к депутатам среди избирателей. Деньги на решение личных проблем избирателей предпочитают не давать, за исключением особых групп (инвалидов, больных детей). Просьбы, связанные с благоустройством территорий и другими общими проблемами, стараются переправлять в администрацию либо способствовать соорганизации избирателей для их решения через подготовку социальных проектов или заявок на конкурсы по софинансированию: « Где-то на полсрока было желание закончить депутатство… потому что есть такие вопросы, которые задают мои избиратели: “А дайте банку краски, нам подъезд надо покрасить, давайте трактор вызовем, а давайте дерево спилим”. Понимаете, у людей до такой степени в голове, что если депутат, то он просто обязан, должен. А фактически мы должны заниматься законотворческой деятельностью, представлять интересы своих избирателей своего округа в городской думе, ну никак не давать банку краски, пилить дерево, косить траву » (Можга).
В целом респонденты отмечают, что в каждой думе есть небольшая по численности и разная по партийному составу группа наиболее активных депутатов, как правило, это молодые мелкие предприниматели или местные общественники. Их не устраивает роль статусных статистов, которую, по их мнению, играют большинство депутатов. Эта группа также не хочет быть «спонсорами» или «благодетелями» по отношению к избирателям. Основную свою функцию они видят в создании правил и условий для развития города, его экономического роста. Поэтому потенциально они могли бы стать опорой при трансформации городских режимов из режимов поддержания статус-кво, какими, по факту, являются большинство режимов в малых городах республики, в режимы роста (Чирикова и Ледяев, 2017, с. 157). При этом они достаточно четко отделяют себя от «неконструктивной оппозиции», роль которой в городских думах, как правило, играют депутаты от КПРФ и которая всегда голосует против любых предложений администрации.
Формальные процедуры и неформальные практики
Работа представительного органа власти предполагает несколько официальных форм, определенных соответствующими регламентами. Это функционирование постоянных профильных комиссий (по экономической политике, бюджету; образованию, науке, культуре, спорту, делам молодежи и национальной политике; социальной защите населения и т. д.), а также постоянных или временных рабочих групп, где готовятся и обсуждаются вопросы, рассматриваемые на заседаниях думы. Действуют также депутатские фракции, куда входят депутаты, избранные от соответствующей политической партии. Помимо сессий, проводимых непосредственно на заседаниях думы, создается президиум думы с целью координации деятельности с другими органами
IV. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ местного самоуправления и органами государственной власти. Как правило, заседания комиссий и думы проходят раз в месяц.
Однако депутатами и местными чиновниками применяются и неинституциональные формы работы и взаимодействия. Так, предварительное обсуждение выносимых на комитеты и сессию вопросов часто носит неформальный характер. О чем депутаты представительных органов малых городов Удмуртии сообщали как о вполне привычной практике: « Сначала все решается предварительно, в неформальной обстановке. Фактически с кем-то разговариваешь по телефону, потом на двоих, троих, четверых. Затем встречаемся все вместе, приходим к консенсусу. Обычно на заседаниях думы уже вопросов не возникает, если все проработано и согласовано » (Глазов). Респондент оценивает данный механизм как проявление большей консолидации действующего шестого созыва думы в противовес предыдущему, где разрозненность интересов избранных депутатов даже привела к формальному возникновению и регистрации двух депутатских групп – «заводских» и «городских» (очень редкое явление для местных советов).
В действующем созыве « есть категория людей, которые находятся “около власти”. Это такие товарищи, как… (дальше идет перечь фамилий нескольких депутатов) . Они, чисто внешне, к власти очень близки. Они тоже имеют свое мнение и периодически высказывают его корпоративно и коллегиально. Не знаю, где они его обговаривают, в бане или не в бане, но они, выработав свое единое общее мнение, активно его лоббируют » (Глазов).
В одной из территорий неформальное обсуждение и согласование вопросов получило название «депутатский час». В ходе него депутаты предварительно прорабатывают и обсуждают вопросы, которые в дальнейшем выносят на решение президиума: « Это неофициальное собрание, ни протокола, ничего. Мы собрались, обсудили, каждый высказал свои предложения, потом это все выносится на президиум » (Камбарка). Подобная практика используется депутатами, чтобы иметь возможность заранее до официальной встречи в конструктивном диалоге выслушать все стороны и изучить все грани вопросов, а также вынести их обсуждение и согласование за пределы своей комиссии: « Мы два месяца проработали и пришли к выводу, что давай введем и будем сидеть общаться, не то, что на сессии мы сидим ругаемся, то есть фактически на сессию уже выносится готовое решение, все обсуждено» (Кам-барка). « Комиссия у нас пять человек, мы с собой это обсудили, приняли решение. Но это решение может быть оспорено другими депутатами на сессии. Чтобы этого не произошло, одеяло чтобы на себя не тянуть – собираемся, говорим, что комиссия выдвинула такое-то решение, приходим к консенсусу ». Появление такой неформальной практики отчасти связано с событиями, которые предшествовали формированию действующего состава городской думы Камбарки. Предыдущий состав был распущен губернатором в результате политического конфликта между бывшим главой города, его сторонниками в думе и частью депутатов, который привел к срыву заседаний думы в течение трех месяцев. Новый глава города был избран из состава обновленного депутатского корпуса. При этом в думе межличностные противоречия не были полностью устранены, и, чтобы не допустить возможного срыва из-за них
Ковин В. С., Петрова Р. И. Соотношение формальных и неформальных практик взаимодействия муниципальных депутатов... формальных процедур, был выработан такой механизм предварительного неформального обсуждения.
Кроме того, практика депутатского часа используется и для урегулирования проблем, возникающим по линии город – район: « Вот нас приглашают районные депутаты, они нас приглашают, мы их приглашаем, на депутатский час. Когда идет общение неформальное, вопросы снимаются. Вот острые такие вопросы » (Камбарка). С другой стороны, по мнению депутатов, не вошедших в этот общий неформальный круг, возник некий « клуб по интересам, один общий круг – два главы и чиновники, некоторые депутаты », который и контролирует освоение бюджетных средств.
В Глазове, где «Единая Россия» и КПРФ являются двумя крупнейшими фракциями, также появилась не предусмотренная регламентом неформальная процедура – совместное заседание фракций. « Вообще мы с Игорем Анатольевичем (председатель думы) с 2015 года применили новую форму работы – это совместные заседания фракции. Есть какая-то цель, проблема (концессии, ветхое жилье). Приезжают люди из Ижевска, прокуратура. Если так надо, (собираемся) чтоб не приглашать два раза. Мы готовы открыто поговорить с представителями, которых они пригласили. В самой думе мы уже распределяемся на два помещения (по фракциям) и решаем, как голосовать: коллегиально, фракционно или нет. У нас такая практика совместной работы есть ».
Интересно обратить внимание на то, что депутаты, находящиеся в меньшинстве или высказывающие недовольство работой администрации, стремятся максимально использовать в своих интересах формальные процедуры. Они строже, чем остальные коллеги, следят за соблюдением регламентов и сроками предоставления того или иного документа, чтобы по формальным причинам постараться отклонить не устраивающее их решение. Апеллируют к общественному мнению, пользуясь телевизионными или интернет-трансляциями сессий, чтобы публично продемонстрировать свое несогласие: « Вопросы у коммунистов в основном появляются по принятию бюджета, по распределению денег, но они не прочитают документы, не посмотрят, и у них начинаются вопросы и прямо уже на сессии, на телевидении они уже начинают какие-то вопросы свои… » (Можга). Представители оппозиционных партий отмечают, что в городах отсутствуют независимые СМИ, какие-либо иные, кроме городской думы, публичные площадки, где бы они смогли представить свою позицию. Такие депутаты стараются максимально использовать те формальные процедуры, которые предоставляет им законодательство и тем самым компенсировать свою исключенность из неформальных практик, которые играют ключевую роль при выработке решений среди «партии большинства». Попытки оппозиционных депутатов опереться на неформальные договоренности, по их собственному признанию, редко приводят к успеху: « В прошлом депутатском созыве было больше согласованности. Можно было договориться, позвонить. А сейчас согласуешь вроде бы, за ночь человек передумает, а завтра принимает абсолютно иное решение » (Глазов).
Молодые депутаты, а также депутаты из числа мелких предпринимателей, как правило оппозиционеры, не включены в неформальные отношения, которые за долгие годы или несколько созывов сложились между депутатами-
«старожилами», чиновниками администрации, руководством города и городской думы, местной бизнес-элитой. Они, как правило, не входят в неформальный круг лиц, где предварительно обсуждаются варианты решений. То же самое касается и депутатов из числа «общественников». Поэтому они оказываются более щепетильными в соблюдении формальных правил и процедур, регулирующих депутатскую деятельность, требуя от руководства думы строгого соблюдения регламента, а от администрации – сроков предоставления документов и информации по рассматриваемым вопросам: « Администрация по регламенту должна выносить (документ) за 30 дней и ранее, потому что надо провести экспертизу аппарату, надо депутатам ознакомиться, а там бывает за пять дней до сессии… Я все прекрасно понимаю, но где вы были раньше?… Я просто начал читать регламент и понял, что это такой правильный документ, по нему гораздо лучше работать, и будет максимальный эффект » (Воткинск); « в дальнейшем я так и сделал, что пересмотрели регламент думы и сделали так, как я хотел (чтобы каждый депутат курировал определенный вопрос)» (Глазов).
При этом некоторые респонденты с сожалением отмечают, что таких активных депутатов явное меньшинство, к сессиям готовятся единицы: « Я думаю, что из нашего созыва человека два–три. А если ты к сессии не готовишься, как можно взвешенное решение принять – это тяжело » (Воткинск); «(Для большинства) прошла сессия и, слава Богу! Зато я депутат, зато у меня статус. Ничего святого! » (Камбарка); « Депутаты у нас приходят на заседания, комиссии, сессию, откровенно не знают, за что голосуют и зачем голосуют. Некоторые сидят на тех же комиссиях, не задавая ни одного вопроса ... не готовые к (сессии) , тут меня это стало корежить, это отработано годами, я пришел и пытаюсь это сломать… » (Глазов).
Согласно ответам интервьюируемых, достаточно четко прослеживается разделение депутатов по отношению к формальным и неформальным процедурам. Депутаты, входящие в правящий круг лиц, близкие к администрации города, предпочитают проводить сессии в ускоренном режиме, без длительного обсуждения вопросов, а все острые углы принимаемых решений сглаживать на стадии обсуждений в комитетах или во время неформальных личных или групповых предварительных обсуждений. Депутаты, относящиеся к оппозиции, либо ситуативно несогласные с предлагаемым решением, предпочитают не участвовать в неформальных или предварительных обсуждениях, а основную критику и контраргументы предъявлять во время самих сессий, стремясь превратить их в публичные дискуссионные площадки: «…у меня возникало море вопросов на самой сессии и на меня смотрели как на саботажницу, как только я поднимала руку … а у меня другого выхода не было, если я не проработала этот вопрос, то я его прорабатываю на сессии. Хорошая сессия считается какая – хорошо проработанный вопрос, полчаса – сорок минут и все, сессия закрыта, хорошо подготовленная сессия, а тут была вечно я, один независимый депутат » (Глазов). Руководство дум, как правило, не заинтересовано в этом и старается заблаговременно снять с обсуждения дискуссионные вопросы, по которым не было достигнуто консолидированного мнения среди «партии большинства».
Депутаты, составляющие так называемое «болото», а они, как отмечают респонденты, имеются в каждом представительном органе и очень разные, но зачастую индифферентны как к формальным, так и неформальным процедурам: « Есть у нас (Глазов) , конечно, и люди, которые “болото”… В целом они все только массу создают при голосовании ». Подобного рода депутаты, которые формально присутствуют практически во всех фракциях, по мнению собеседников, как правило, руководствуются сугубо частными или корпоративными интересами, поэтому их включенность в формальные или неформальные практики носит ситуативный характер в случаях, когда эти интересы затрагиваются. Некоторые из них, как считается респондентами, просто «досиживают» свой срок, поскольку нахождение в гордуме потеряло для них целесообразность – субъективный интерес, в соответствии с которым они избирались, либо оказался уже удовлетворен, либо депутатство никак этому не способствовало. Представляется, что указанную индифферентность такого рода депутатов следует рассматривать как своеобразное проявление агентно-сти, их субъективной позиции.
В неформальном ключе нередко складываются отношения не только внутри думы (между депутатами), но и взаимодействия между депутатами и главой города, представителями администрации. Так, например, распространены случаи негласной и неформальной зависимости депутатов от главы города / чиновников из администрации. Депутат, получая вакантную должность в городе (например, директора школы), взамен обеспечивает лояльное голосование по важным городским вопросам, даже если его личное мнение оказывается совершенно противоположным. « Видно, вот разговариваешь с человеком в закулисье, он “да, да, плохо, да”. И тут же голосует, глаза закрывает и голосует. Я говорю, ну почему ты голосовал-то так – а что я сделаю, он меня год назад директором назначил, ты хочешь, чтобы меня через месяц сняли? Вот и все. У нас это очень просто » (Глазов).
В наибольшей степени эта зависимость проявляется у части депутатов, которых принято называть «бюджетниками». Их выдвижение, как правило, инициировано местной администрацией и согласовано с ней. По мнению их коллег, они менее заинтересованы в реальном обсуждении вопросов, их основной задачей является трансляция через голосование позиции администрации: « Я так понимаю, она (роль “бюджетников”) заключается в том, чтобы прийти на сессию и поднять руку » (Можга); « Бюджетники – это хорошо, но если их много и они принимают решение, которое выгодно администрации – это не очень хорошо » (Воткинск)4.
Респонденты фактически указывают на сложившуюся в городских думах неформальную практику дирижирования со стороны городской администрации голосованием определенной группы депутатов, находящихся в формальной зависимости от органов городского управления (главы и сотрудники муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий) или городских ресурсов (получатели муниципальных подрядов), так называемого «голосования по указке»: «директор школы, например, говорит, что не смогу голосовать так, как просите, ибо боюсь, что меня уволят»; «муниципальный служащий и директор МУП зависим, реально зависим, но ведь и независимых нет» (Глазов).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, социально-политическая дифференциация депутатского корпуса представительных органов малых промышленных городов представляет собой более сложную картину.
Структурная формальная партийно-политическая (фракционная) и организационная (комиссии, рабочие группы) фрагментация городских дум и советов усложняется наличием неформальных внутрифракционных, межфракционных и внефракционных мини-групп, ситуативных группировок депутатов, а также депутатов, проявляющих определенную долю самостоятельности («индивидуалов»). Неформальные разногласия, как правило, приводят к формальным расколам только среди оппозиционных фракций (КПРФ), обусловленных разными индивидуальными и общественными целями депутатов, вошедшими в партийный список. Фракции единороссовского большинства обычно сохраняют свое формальное единство, однако некоторые депутаты, не удовлетворенные эффективностью своего участия в их деятельности, прибегают к неформальным способам неучастия или отстранения от фракционной деятельности.
Помимо этого, формируется неформальная фрагментация депутатов по социально значимым признакам (например, «бюджетники», «заводские», «бизнесмены»), а также по политическому или «депутатскому» опыту («старожилы» / «новички»). Для последнего характерен поколенческий разрыв, который проявляется в разных стилях работы как внутри думы, так и с избирателями. «Старожилы», как правило, выступают носителями неформальных практик, а «новички» стремятся к более строгому и формаль-номувыполнениюрегламентныхпроцедур,атакжекформализацииотношений с избирателями в пределах установленных законом депутатских полномочий и прекращению неформальных практик «потребительских» взаимодействий с ними.
Именно на этой основе – придания большего значения при принятии решений формальным процедурам и сокращения влияния неформальных практик – происходит сближение позиций между активными депутатами из числа оппозиции, «индивидуалами» и единороссами из числа «новичков».
Анализ ответов респондентов, на наш взгляд, указывает на весьма интересный феномен: формальные и неформальные практики могут по-разному сочетаться в различных формальных структурах в рамках одного представительного органа. Если для фракции «Единой России» в большей степени характерны неформальные практики, которые дополняют существующие формальные структуры и процедуры, подкрепляют их, то для оппозиции 331
само использование неформальных практик становится проблематичным. Они из них либо совсем исключены, либо формальные процедуры (например, фракционное голосование) перечеркивают все усилия по их использованию. В результате «правящее большинство» делает акцент на неформальных процедурах, а формальные лишь легитимизируют принятые там решения, поэтому они должны проходить «быстро и четко». Контролируемое большинство депутатов гарантирует эффективность формальных процедур, при этом последние не должны быть чрезмерно обременительны, поэтому частью формальных процедур (сроками, регламентом) можно пренебречь. Оппозиция, исключенная из неформальных взаимодействий, напротив, стремится усилить значение формальных процедур при принятии решений за счет требований строгого соблюдения всех принятых правил и придания этим формам большей публичности и дискуссионности. При этом она готова отказаться от тех промежуточных формальных процедур (фракции), чьи решения оказываются еще менее эффективными в сложившейся для депутатского меньшинства ситуации.
В некоторых случаях (например, в Можге в момент избрания нового главы) возможно ситуативное появление конкурентных практик (неформальных внефракционных и частично внепарламентских групп влияния) в представительном органе, которые оказались способны опрокинуть решения, предлагаемые формальными структурами.
Хелмеке и Левитски оценивают соотношение формального и неформального, используя два критерия – эффективность формальных процедур (эффективным признается институт, где не нарушаются правила) и совпадение результатов от использования формального и неформального (Хелмеке и Левитски, 2007, с. 195). Результаты эмпирического исследования показывают, что эффективность работы представительного органа власти не ставится под сомнение респондентами. Несмотря на использование в своей работе неформальных практик, формальные правила и процедуры не нарушаются. Вариации в соотношении формального и неформального появляются при оценке результатов от их использования, т. е. речь идет о соблюдении или нарушении основного смысла работы депутатов и местных чиновников – это принятие общественно важных решений на благо жителей, обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан.
Так, например, практика предварительного неформального обсуждения вопросов депутатами помогает не только оптимизировать процесс принятия решений на заседании думы, но и досконально проработать эти вопросы заранее, поскольку эти встречи и обсуждения жестко не ограничены ни временем, ни местом, ни регламентом. При этом некоторые респонденты отмечают явный недостаток времени, который предоставляется депутатам для ознакомления с подготовленными администрацией документами и тщательной проработки предлагаемых решений. Такого рода неформальные практики, как депутатский час, гармонично работают совместно с формальными процедурами и даже в какой-то степени дополняют, поддерживают их существование. Такие практики, следуя логике Хелмеке и Левитски, можно назвать дополняющими .
Другая неформальная практика – «голосование по указке» вследствие зависимости депутата-«бюджетника» от городской администрации / главы города – вступает в противоречие с основной миссией депутата и принципами его деятельности, согласно которым он при принятии решений должен руководствоваться своей свободной волей и самостоятельно понимаемым им общим благом. В результате решения принимаются не в интересах жителей, а для выгоды определенного круга местной или региональной элиты или в интересах региональной власти. Такую практику можно назвать аккомодационной . Аккомодационные неформальные практики, таким образом, сохраняют стабильность формальной процедуры (де-юре процедура голосования проходит без нарушений), не повышая при этом степень ее эффективности. Совместное же заседание фракций может быть рассмотрено как замещающая практика. Такие заседания фактически становятся альтернативой собраниям фракций, которые они проводят затем по отдельности.
В целом изучение соотношения формальных и неформальных практик в деятельности представительных органов власти дает более полное и комплексное представление о функционировании данных органов власти и ее российской специфике. Высокая, если не определяющая, роль в их деятельности неформальных процедур уже не вызывает серьезных сомнений. В дальнейшем вектор исследований может быть направлен на систематизацию данных о конкретных формах и видах неформальных практик, а также на изучение факторов и степени их устойчивости в сравнении с формальными процедурами.
Список литературы Соотношение формальных и неформальных практик взаимодействия муниципальных депутатов (на примере представительных органов власти малых городов Удмуртской Республики)
- Аллен Т. От "неформальных секторов" к "реальным экономикам" Африки // Неформальная экономика. Россия и мир / Под ред. Т. Шанина; пер. и ред. И. Давыдовой, Е. Ковалева, А. Никулина. М: Логос, 1999. С. 412-436.
- Афанасьев М. Н. Клиентелизм и российская государственность. Исследование клиентарных отношений, их роли в эволюции и упадке прошлых форм российской государственности, их влияния на политические институты и деятельность властвующих групп в современной России. 2-е изд., доп. М.: Моск. обществ. науч. фонд, 2000. 318 с.
- Бабинцев В. П., Юркова О. Н. Специфика неформальных практик в исполнительно-распорядительных органах местного самоуправления // Общество: социология, психология, педагогика. 2017. № 10. С. 9-16. DOI: 10.24158/spp.2017.10.1
- Бехтерева Л. Н. Политическое устройство и административное деление Удмуртии в XX веке // Удмуртская республика: историко-этнографические очерки / Науч. ред. А. Е. Загребин. Ижевск: Удмурт. ин-т истории, языка и литературы УрО РАН, 2012. С. 26-30.
- Витковская Т. Б., Рябова О. А. Моногорода среднего Урала: локальные элиты и политические процессы. Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2011. 259 с.