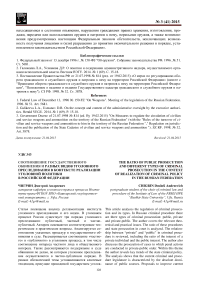Соотношение государственного обвинения и разных видов уголовного преследования в контексте реализации уголовной политики в Российской Федерации
Автор: Чигрин Дмитрий Андреевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Уголовное право и криминология. Уголовно-исполнительное право. Уголовный процесс
Статья в выпуске: 3 (41), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу регламентации института уголовного преследования и его видов. В уголовном процессе России существует три порядка уголовного преследования: публичный, частный и частно-публичный. Автором освещаются соответствующие теоретические и практические вопросы. Анализируется соотношение указанных процедур и государственного обвинения в суде. Рассматривается соотношение «частного» и «публичного» в уголовном процессе, в том числе соотношение интереса частного лица и общественного интереса. Также рассматривается поддержание в суде обвинения по делам, по которым уголовное преследование осуществляется в частно-публичном порядке. В рамках обозначенной темы устанавливаются ключевые тенденции, присущие проводимой государством уголовной политике. Проведенный анализ показывает, что современное уголовно-процессуальное законодательство отличается безусловным доминированием публичных начал. Исходя из полученных результатов формулируются предложения по совершенствованию действующего правового регулирования. При подготовке статьи использованы существующие научные исследования, судебная практика Конституционного Суда РФ, учтены последние изменения уголовно-процессуального закона.
Уголовное преследование, государственное обвинение, уголовная политика, уголовно-процессуальная политика, частно-публичные начала
Короткий адрес: https://sciup.org/142232625
IDR: 142232625 | УДК: 343
Текст научной статьи Соотношение государственного обвинения и разных видов уголовного преследования в контексте реализации уголовной политики в Российской Федерации
Уголовное преследование – один из ключевых институтов, характеризующих проводимую государством уголовную политику и уголовно-процессуальную политику. Современному законодательству известно три вида уголовного преследования. В соответствии с ч. 1 ст. 20 УПК РФ, оно может осуществляться в публичном, частно-публичном и частном порядке. Важной частью уголовного преследования является государственное обвинение. Однако недостаточно ясно, каким образом государственное обвинение соотносится с указанными выше порядками. Рассмотрим обозначенную проблему. В первую очередь законодатель справедливо указывает на публичный порядок уголовного преследования. В объем данного понятия входит и государственное обвинение. Слово «публичный» имеет в русском языке два основных значения, нередко воспринимаемых на уровне обыденного и профессионального не юридического сознания как единое целое: «осуществляемый в присутствии публики; общественный, не частный» [1, с. 547]. В слово же «государственный», очевидно, законодатель вкладывает смысл «исходящий от государства» и только от него. Таким образом, значение первого термина заведомо шире.
Разграничивать правовое значение терминов, обозначающих формы уголовного преследования, сложнее. Ведь нормы закона сами по себе a priori носят государственный, а, следовательно, и публичный, характер, да и производство по уголовному делу с любой формой уголовного преследования ведётся государственными органами. О публичности как свойстве уголовного процесса говорилось всегда. Закрепления в качестве одного из его принципов публичность не получила, однако уголовнопроцессуальная доктрина de facto признает существование такового. Как пишет А.С. Барабаш, именно в публичности в уголовном процессе воплощаются его главная идея и сущность, исходя из принципа публичности формулируются основные требования к осуществляемой процессуальной деятельности [2, с. 17]. Неудивительно, что связь базовых принципов государственности и уголовного преследования подчеркивалась также Конституционным Судом РФ. В Постановлении от 27 июня 2005 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности положений частей второй и четвертой статьи 20, части шестой статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, части третьей статьи 318, частей первой и второй статьи 319 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами Законодательного Собрания Республики Карелия и Октябрьского районного суда города Мурманска» Конституционный суд РФ констатирует, что установление уголовной ответственности за совершение определенного деяния «является свидетельством достижения им такого уровня общественной опасности, при котором для восстановления нарушенных общественных отношений требуется использование государственных сил и средств».
Однако государство – это абстрактная правовая конструкция. Как справедливо заметил И.Я. Фойницкий, без соответствующих органов, представленных физическими лицами, государство выполнять перед уголовным судом функцию обвинения не может [3, с. 61]. Если смотреть на государство как на общественный институт, то становится ясно, что невозможно отделять деятельность официальных лиц от интересов частных лиц. Деятельность первых неминуемо осуществляется в целях защиты прав вторых. А.А. Тарасов, говоря о сочетании частных и публичных интересов в делах частного обвинения, отмечает следующее:
-
1. «Сам факт публично-правового регулирования защиты частного интереса есть проявление интереса публичного…»
-
2. Частный интерес, за защитой которого человек обратился к органам публичной власти, – это уже не просто частный интерес конкретного лица, и защищаться он должен как интерес публичный.

-
3. Публичный интерес во всех процедурах уголовно-процессуальной защиты частного интереса состоит в наиболее полном обеспечении реализации правомерного частного интереса каждого его носителя и в ограждении каждого от злоупотреблений правами со стороны других носителей частных интересов [4, с. 180].
Как следует из сказанного, определить точное соотношение частных и публичных начал в реализации уголовного преследования достаточно сложно. Их тесное переплетение позволяет поставить вопрос о наличии связей между такими внешне разнородными институтами, как частное и государственное обвинение. Как известно, частному обвинению присущи следующие свойства: во-первых, субъектом частно-обвинительной деятельность выступает лицо, действующее не вследствие служебных обязанностей, а в целях защиты своих личных интересов; во-вторых, возбуждение производства и его окончание связаны с волей данного лица, но осуществляются органами государственной власти.
Если взглянуть на институт частного обвинения, абстрагировавшись от его привычного восприятия, то может возникнуть парадоксальный вопрос – насколько частное обвинение исходит от частных лиц и самостоятельно по отношению к публичному обвинению? Ведь субъект, делегирующий право обвинять, узаконивающий соответствующие процедуры, всегда один – это государство. Сложно отрицать факт наличия у государства значительных возможностей влиять на производство по данным делам. Ведь зачастую интерес частного лица и общественный интерес расходятся. Согласимся с Н.Н. Полянским, писавшим, что «во-первых, непредъявление уголовного иска частным лицом свидетельствует иногда не о том, что оно не заинтересовано в уголовном преследовании виновного, а лишь о том, что оно не хочет брать на себя тягостей, соединенных с предъявлением и поддержанием публичного обвинения; во-вторых, отсутствие со стороны потерпевшего заинтересованности в уголовном преследовании еще не свидетельствует об отсутствии такой же заинтересованности у общества» [5, с. 17]. Несмотря на высокое влияние публичных начал на механизм частного обвинения, государственное обвинение по таким делам осуществляться не может даже в качестве исключения. Однако в ряде случаев подобная необходимость имеется. Данную проблему решает третий вид уголовного преследования, находящийся на стыке описанных выше порядков – частно-публичный. Ключевой особенностью дел частно-публичного обвинения является то, что по общему правилу, изложенному в ч. 3 ст. 20 УПК РФ, возбуждаются они не иначе, как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат.
Перечень составов, относящихся к данному порядку уголовного преследования, содержит некоторые преступления против половой неприкосновенности личности, против конституционных прав и свобод, против собственности. Представляется очевидным, что решение законодателя об обособлении данных составов преступлений продиктовано тем, что установление факта их совершения крайне маловероятно без содействия со стороны потерпевших, однако установление их фактических обстоятельств важно для охраны общественного порядка.
В этой связи представляет особый интерес правовая норма, закрепленная в ч. 4 ст. 20 УПК РФ. В соответствии с ней в некоторых ситуациях руководитель следственного органа, следователь, а также с согласия прокурора дознаватель вправе возбудить уголовное дело о любом преступлении, указанном в ч. 2 и ч. 3 рассматриваемой статьи. К упомянутым ситуациям относятся следующие: во-первых, выявление факта совершения преступления в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы; во-вторых, совершение преступления лицом, данные о котором не известны.
Подобные исключения из общих правил содержались и в УПК РСФСР 1960 г., в соответствии со ст. 27 которого в случае, если дело об одном из указанных в данной статье законодателем преступлений имело особое общественное значение или если потерпевший в силу беспомощного состояния, зависимости от обвиняемого или по иным причинам не был в состоянии защищать свои права и законные интересы, прокурор мог возбудить такое дело и при отсутствии жалобы потерпевшего. При этом дело, возбужденное прокурором, направлялось для производства дознания или предварительного следствия, а после окончания расследования рассматривалось судом в общем порядке и прекращению за примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежало. Возможности возбудить уголовное дело в публичном порядке в случаях, когда «обидчик» неизвестен, в УПК РСФСР предусмотрено не было, а в УПК РФ такое правило появилось тоже не сразу – только в апреле 2007 года. Его отсутствие в законе создавало патовую для потерпевшего ситуацию: будучи, например, избитым незнакомым ему человеком, он вообще не имел возможности обратиться ни в какие государственные органы за защитой своих прав.
В современном уголовно-процессуальном законе законодатель отказался от такого критерия как «особое общественное значение совершенного деяния», сохранив, в целом, правовой механизм защиты прав тех, кто по разным причинам не может защитить себя самостоятельно. Такой подход заслуживает поддержки, поскольку он способствует реализации конституционной обязанности государства защищать права и свободы человека и гражданина (ст. 2 Конституции РФ), в том числе – право на судебную защиту и на доступ к правосудию (ст.ст. 46 и 47 Конституции РФ) и обязанности правоохранительных органов обеспечивать возможность осуществления своих прав всеми участникам уголовного судопроизводства (ч. 1 ст. 11 УПК РФ).
Полагаем, что не потеряло актуальности высказывание А.М. Ларина, в 1978 году отмечавшего, что «цели института возбуждения уголовного дела, принципы гуманизма и законности уголовного процесса, его этические основы обусловливают необходимость последовательного проведения публичного начала в интересах лиц, неспособных самостоятельно отстаивать свои права и потому нуждающихся в особой заботе и поддержке» [6, с. 84]. Считаем, что существование и последовательное воспроизведение нормы подобного содержания в законодательстве свидетельствует о нацеленности уголовной политики государства на гуманизацию процессуальной формы.
Однако, вследствие изложенного, возникают новые вопросы. Какой имеет характер уголовное преследование по подобным делам – частный или частно-публичный? Является ли обвинение, поддерживаемое по таким делам, государственным?
Полагаем, что в данном случае уголовное преследование будет носить частно-публичный характер, поскольку факт осуществления должностными лицами действий, направленных на разрешение возникшего конфликта, неминуемо лишает спор изначально частного характера. Обвинение, поддерживаемое по таким делам, также будет являться государственным. Иное бы означало, что должностное лицо представляет интересы частного лица, что в корне противоречит действующему законодательству – подобная деятельность может быть осуществлена лишь от имени государства и в целях защиты публичных интересов.
В свете изложенного, обратим внимание на иной спорный момент. В ч. 5 ст. 20 УПК РФ указывается, что уголовные дела, за исключением уголовных дел, указанных в ч. 2 и в ч. 3 данной статьи, считаются уголовными делами публичного обвинения. Недостаточно ясно, входят ли в круг уголовных дел публичного обвинения дела, возбужденные в порядке ч. 4 ст. 20 УПК РФ.
В литературе отмечается, что доминирующее положение представителя государственной власти в процессе доказывания при осуществлении уголовного преследования предопределяет публичный характер уголовного судопроизводства [7, с. 95].
Считаем верной указанную точку зрения. Полагаем, что в случае возбуждения уголовного дела в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 20 УПК РФ, производство по нему не может осуществляться в частном или в частно-публичном порядке, поскольку это противоречило бы существу возникших правоотношений.
Сказанное позволяет сделать следующие выводы:
-
1) Соотношение «частного» и «публичного» в уголовном процессе России характеризуется глубоким взаимопроникновением. Данное обстоятельство детерминирует вектор проведения государственной уголовно-процессуальной политики, а также обусловливает тесную связь государственного обвинения и установленных законом видов уголовного преследования.
-
2) По делам, по которым уголовное преследование осуществляется в частно-публичном порядке, поддерживаться в суде может лишь государственное обвинение.
-
3) Уголовная политика, проводимая законодателем, характеризуется поддержанием стабильно высокого уровня внимания к защите прав лиц, неспособных самостоятельно отстаивать свои интересы.
-
4) Ч. 5 ст. 20 УПК РФ необходимо изложить в следующей редакции:
«Уголовные дела, за исключением уголовных дел, возбужденных в порядке, предусмотренном частями второй и третьей настоящей статьи, считаются уголовными делами публичного обвинения. Уголовные дела, возбужденные в порядке части четвертой настоящей статьи, также считаются уголовными делами публичного обвинения».
Список литературы Соотношение государственного обвинения и разных видов уголовного преследования в контексте реализации уголовной политики в Российской Федерации
- Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / Под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. 18-е изд., стереотип. М.: Рус. Яз., 1986. 797 с.
- Барабаш А.С. Публичное начало российского уголовного процесса. Автореф. дисс. … докт. юрид. наук. Красноярск, 2006. 49 с.
- EDN: NOLBOV
- Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства.Т. I. СПб., 1996. 552 с.
- Тарасов А.А. К вопросу о публичности «частного обвинения». Вестник Самарского государственного университета. 2012. №5. С. 178-183.
- EDN: PJBGFX
- Полянский, Н.Н. К вопросу об участии частных лиц в публичном обвинении (Принципиальные основания actio popularis в уголовном процессе) / Н.Н. Полянский. Москва: журнал "Юридический вестник", типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1915 г. 27 с.
- Ларин А.М. Структура института возбуждения уголовного дела. Сов. государство и право. 1978. №5. С. 76-84.
- Дикарев И.С. Соотношение принципов публичности и состязательности в уголовном судопроизводстве (исторический аспект). Государство и право. 2012. № 5. С. 88-95.
- EDN: OZDZUR