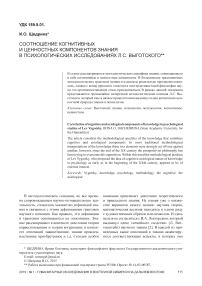Соотношение когнитивных и ценностных компонентов знания в психологических исследованиях Л. С. Выготского
Автор: Щедрина Ирина Олеговна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Мир человека
Статья в выпуске: 1 (31), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается методологическая специфика знания, совмещающего в себе когнитивные и ценностные компоненты. В большинстве традиционных методологических трактовок знания эти аспекты решительно противопоставлялись, однако с конца прошлого столетия в постпозитивистской философии науки это противопоставление стало преодолеваться. В рамках данной тенденции представляется чрезвычайно интересной методологическая позиция Л.С. Выготского, который еще в начале прошлого века выдвинул идею когнитивно-ценностной природы знания в психологии.
Выготский, знание, психология, методология, когнитивное, ценностное
Короткий адрес: https://sciup.org/170175556
IDR: 170175556 | УДК: 159.9.01.
Текст научной статьи Соотношение когнитивных и ценностных компонентов знания в психологических исследованиях Л. С. Выготского
В методологическом сознании, во все времена сопровождавшем научно-познавательную деятельность, сложилось множество дефиниций знания и связанных с этими дефинициями трактовок научного познания. Как правило, эти дефиниции и трактовки основываются на оппозициях. Знание рассматривают в контексте дихотомии теории корреспонденции и теории когеренции; в контексте оппозиций знание/мнение, знание врожден-ное/знание приобретенное и т.д. Сегодня особое внимание привлекает дихотомия теоретического и прикладного знания. Не говоря уже о множестве вариантов самого знания: научная теория, математическая аксиома находятся в одном ряду с художественным образом или символом. И здесь нельзя не согласиться с В.А. Лекторским, который выдвинул идею «семейного сходства» (Л. Витгенштейн) научного знания [2]. В каждой из приведенных выше оппозиций в знании акцентируются соответствующие аспекты, в которых оно предстает и функционирует. Поэтому, я думаю, главная проблема, которая возникает в ходе философско-методологического осмысления знания, состоит в том, чтобы прояснить, при каких условиях те или иные формы и характеристики знания соответствуют контексту, в котором это знание эффективно функционирует (и в познавательном и в практическом планах).
В данной статье меня интересует методологическая специфика знания, совмещающего в себе когнитивные и ценностные компоненты. Надо сказать, в большинстве традиционных методологических трактовок знания эти аспекты решительно противопоставлялись. Однако, с конца прошлого столетия в постпозитивистской философии науки это противопоставление стало преодолеваться. И в рамках этой тенденции представляется чрезвычайно интересной методологическая позиция Л.С. Выготского, который еще в начале прошлого века выдвинул идею когнитивно-ценностной природы знания в психологии. В 1927 г. он пишет работу «Исторический смысл психологического кризиса» и посвящает ее методологическому анализу современной ему ситуации в научной (в частности – психологической) сфере.
По Выготскому, присутствие ценностной методологической установки в познании отнюдь не противоречит когнитивной. Для него ценность знания состоит в его методологическом упорядочивании. Зачастую из-за неупорядоченности знания, опыта, рабочего материала в условиях множества существующих уже на тот момент концепций, ученый-психолог сталкивается с большим количеством проблем и теряет когнитивную ориентацию. Ему неизвестно, как именно лучше расставить акценты, учитывая уже имеющиеся достижения в рамках определенного направления в психологии; не говоря уже обо всей психологии в целом (и уж совсем не говоря о состоянии науки целиком со всеми ее типологическими, когнитивными и ценностными аспектами и проблемами). И вот здесь особое значение приобретают ценностные установки.
Выготский анализирует проблему методологического воззрения на человека в различных психологических системах и приходит к выводу, что ученый рассматривает споры зачастую диаметрально противоположных направлений в патопсихологии, зоопсихологии, пытаясь дать хотя бы начальный набросок науки, которой принадлежала бы главенствующая роль в психологической среде. Учитывая множество сложившихся к тому времени научных сообществ, направлений и концепций, ученый пытается найти выход из кризиса в определении общего вектора для психологии: «Из такого методологического кризиса, из осознанной потребности отдельных дисциплин в руководстве, из необходимости – на известной ступени знания – критически согласовать разнородные данные, привести в систему разрозненные законы, осмыслить и проверить результаты, прочистить методы и основные понятия, заложить фундаментальные принципы, одним словом, свести начала и концы знания, – из всего этого и рождается общая наука» [1, c. 292].
В качестве примера одной из граней психологического кризиса, Выготский приводит споры относительно статуса патологии в традиционной психологии. Ученый подчеркивает степень необходимости общенаправляющих методологических акцентов, приводя две дихотомические точки зрения. В традиционной психологии в качестве точки отсчета берется психически здоровый человек, и далее все патологии личности рассматриваются именно как отклонения от установленной нормы. В противоположность этому направлению выдвигаются точки зрения другой методологической системы: «…сущность и природа изучаемых психологией явлений раскрываются в наиболее чистом виде в их крайних, патологических выражениях. Следовательно, надо идти от патологии к норме, из патологии объяснять и понимать нормального человека, а не наоборот, как это делалось до сих пор. Ключ к психологии – в патологии» [1, c. 293].
Фактически, в своих научных изысканиях Выготский констатирует проблему разных систем координат, существующих в рамках одной науки.
Помимо патопсихологии в том же ключе Выготский говорит о зоопсихологии. Он подчеркивает тот факт, что многие его коллеги также поддерживали ее претензии на главенствующий статус в психологической иерархии: «…зоопсихология, – писал он, – принципиально выдвигается рядом авторов как общая дисциплина, с которой должны быть соотнесены другие дисциплины. То, что она является логическим началом науки о поведении, отправной точкой для всякого генетического рассмотрения и объяснения психики, то, что она есть чисто биологическая наука, обязывает именно ее выработать фундаментальные понятия науки и снабдить ими соседние дисциплины» [1, c. 293]. Выготский отмечает, что в своем поиске общей науки часть ученых не стремилась выйти за пределы биологической основы психологии, приводя в качестве аргумента в пользу зоопсихологии ее сугубо естественнонаучный, биологический статус. И снова все упирается в поиск нужной точки отсчета: изучение животных, или же изучение человеческой психики даст верные ответы? С той же проблемой сталкиваются фундаментальные исследования психологии поведения и рефлексологии. В слабоупорядоченном море фактов, знаний, законов ученому-психологу сложно понять, в каком направлении продвигаться с дальнейшими исследованиями. Можно сказать, что он сталкивается с методологической неопределенностью – фактически, это тупик, способный порою свести на нет, обесценить уже существующее знание. «Вот новая контроверза между изучением животных и психологией человека. Положение, по существу, очень сходное с контроверзой между патопсихологией и психологией нормального человека. Какой дисциплине главенствовать, объединять, вырабатывать основные понятия, принципы и методы, сверять и систематизировать данные всех других областей?» [1, c. 296].
В поиске характеристик для общей психологии – той самой панацеи от психологического кризиса – Выготский стремится проанализировать максимум сложившихся концепций, систем, поворотов мысли. Он четко прописывает методологию своих поисков в рамках ценностно-когнитивной составляющей научного знания: «Отсюда выводится <…> правило для действия, для организации научного исследования, методологическое исследование, пользующееся историческим рассмотрением конкретных форм науки и теоретическим анализом этих форм, чтобы прийти к обобщенным, проверенным и годным для руководства принципам» [1, c. 296].
Ключевым методом, по мнению Выготского, становится особый, культурно-исторический по своей направленности анализ фактов, начиная от эмпирических, и заканчивая психологическими гипотезами, теориями, познавательными схемами и цельными психологическими системами. «При этом мы подвергаем их рассмотрению не с абстрактно-логической, чисто философской стороны, а как определенные факты в истории науки, как конкретные, живые исторические события в их тенденции, противоборстве, в их реальной обусловленности, конечно, и в их познавательно-теоретической сущности, т.е. с точки зрения их соответствия той действительности, для познания которой они предназначены» [1, c. 296]. Можно сказать, Выготский прибегает к культурно-историческому анализу научной действительности, стремясь понять: как лучше реализовать, провести исследование, обеспечить его методологическим каркасом – рассмотрев некоторые конкретные формы науки и, проанализировав их, прийти к неким общим принципам знания (в данном слу- чае, психологического). Вооружившись историей и методологией науки, он выводит несколько фаз развития общей дисциплины, общей науки – общей психологии. В самом начале своего развития общая дисциплина может отличаться от специальной только количественным признаком (опираясь на исследования Бинсвангера, Выготский говорит об общей и специальной зоологии, ботанике, физиологии и т.д.). Фактически, предмет изучения общей дисциплины – то общее, что присуще всем объектам конкретной науки; специальная же рассматривает более детально; ее предмет заключается в рамках отдельных групп или даже специфических объектов. В следующей фазе выделяется некое общее абстрактное понятие, присущее одинаково всем психологическим (в рамках исследования Выготского) дисциплинам, «что имеет для психологии познавательную ценность в явлении» [1, c. 298]. Та самая общая черта, способная придать методологическому хаосу специальных дисциплин когнитивное равновесие, дать некую точку отсчета среди множества направлений.
В попытке разобраться в методологической ситуации в психологии, Выготский напрямую задает вопрос, как бы требующий от существующих психологических направлений найти точки соприкосновения: «Что же наиболее общего у всех явлений, изучаемых психологией, что делает психологическими фактами самые разнообразные явления – от выделения слюны у собаки и до наслаждения трагедией, что есть общего в бреде сумасшедшего и строжайших выкладках математика?» [1, c. 298] Фактически, речь здесь идет о выходе, говоря современным методологическим языком, на трансдисциплинарный уровень, на уровень осмысления перспектив психологии с точки зрения более общей, нежели интересы отдельных психологических дисциплин. Но Выготский получает на него три разных ответа: от традиционной психологии, от рефлексологии и психоанализа. Три психологических направления из множества определяют общую психологию через психологические явления, через поведение или же через бессознательное. Главная проблема в данном поиске – найти общее, тогда один и тот же факт (не говоря уже о теории, о предмете науки) будет рассмотрен с разных сторон, но в контексте доминирующей системы.
Сегодня, близкая мысль прослеживается в рассуждениях Владислава Александровича Лекторского: направление развития теории определяется именно формированием общей концептуальной модели. Создание идеальных объектов в этой модели служит своеобразным методологическим компасом, направляющим исследование; и, в то же время, разрозненный на первый взгляд эмпирический материал оказывается вплетенным в общенаправленную научную канву. Однако, для Лекторского становится важным, работая с психологией, не забывать о своеобразных «ловушках», описанных социальным конструкционизмом: когда теоретические объекты, идеализированные объекты, и даже часть коммуникативной сферы оказываются равны друг другу, что возвращает ученого, с точки зрения социального конструктивизма, к исходному методологическому состоянию. К примеру, когда психолог, работая с пациентом, фактически, заново формирует реальность своего взаимодействия с ним, независимо от пациента. В результате чего подчас могут возникнуть несколько новых диагнозов в дополнение к уже имеющимся. В рассуждениях Лекторского поднимается проблема конструктивизма и реализма, проблема в отношении к реальности и теории, проблема реального существования. И вопрос о понимании познания, о специфике самого познавательного процесса играет определяющую роль при выборе методологической стратегии в эмпирическом исследовании, что роднит его с научными поисками Выготского. Разумеется, здесь встает также вопрос о статусе самого знания. Владислав Александрович говорит о варианте, снимающем научную дихотомию реализма и конструктивизма – о конструктивном реализме. Для Выготского избавлением от многочисленных противостояний научных подходов становится выход на другой, более высокий когнитивный уровень: он говорит о различении общей и специальной науки (общего и специального знания) в рамках культурно-исторического анализа: «Эту стадию поисков и попытки применения общего всем психологическим дисциплинам абстрактного понятия, составляющего предмет всех их и определяющего, что следует выделять в хаосе отдельных явлений, что имеет для психологии познавательную ценность в явлении, – эту стадию мы видим ярко выраженной в нашем анализе и можем судить, какое значение эти поиски и искомое понятие предмета психологии, искомый ответ на вопрос, что изучает психология, могут иметь для нашей науки в данный исторический момент ее развития» [1, c. 298].
Выготский, анализируя степень развития психологии на современном ему историческом этапе, констатирует, что проблема, как ни странно, заключается в достаточно высоком уровне развития психологии, существовании в ней уже на тот момент множества подсистем и концепций. Когда мы работаем с эмпирическим материалом и пытаемся выделить нечто общее, относящее полученные данные именно к конкретной психологической дисциплине – мы можем рассмотреть материал с множества различных ракурсов, точек зрения. Один и тот же факт может быть рассмотрен со стороны рефлексологии, психоанализа или патопсихологии, и каждый раз объяснение будет различным, акценты будут расставлены по-о-собому. Различные сферы одной и той же науки подчас пользуются разными понятиями, классификациями, даже законами. Между тем, настаивает Выготский, необходимо найти все же что-то общее для этих явлений. И он определяет направление этого поиска; он констатирует его с позиций своей эпохи, говоря о психологическом кризисе. Фактически, он апеллирует к культурно-исторической среде, в которой психология существует как культурно-исторический феномен.
Выготский рассуждает. «Но фундаментальное понятие, так сказать, первичная абстракция, лежащая в основе науки, определяет не только содержание, но и предопределяет характер единства отдельных дисциплин, а через это – способ объяснения фактов, главный объяснительный принцип науки» [1, c. 300]. Соответственно, общая наука (в данном конкретном поиске – общая психология) позволит определить смысл, ключевую роль каждой составляющей в иерархии подсистем и направить исследования в нужном методологическом ключе; фактически – прояснит способ объяснения, который Выготский называет «объяснительным принципом». Ученый прослеживает направление научного поиска, замечая переход от тенденции к обобщению и объединению знания к стремлению знание объяснить. Этот переход, выражающий стремление к единству знания, к построению целостной системы знания выводит исследование за рамки узких интересов отдельных дисциплин. Фактически, речь здесь идет о стремлении к расширению роста знания, о развитии науки. А как о том свидетельствует история возникновения и развития науки, истоки этого стремления коренятся в культуре. И Выготский достаточно ясно обозначил понимание этого обстоятельства в разработке своей версии культурно-исторической психологии.
Обобщение у Выготского непосредственно связано с «объяснительным принципом», поскольку объяснение – это в первую очередь установление связей, закономерностей между различными группами фактов, явлений в рамках одной или нескольких дисциплин. И когда требуется наибольшее обобщение – поиск выходит за рамки заданных дисциплин, в попытке обнаружить обобщения более высокого порядка, способные охватить и объяснить весь материал. И Выготский подчеркивает в данном методологическом анализе борьбу дисциплин за возможность дать обобщающее понятие, а значит – дать объяснение. Ключевой вопрос при таком когнитивном повороте – что принимать за первичное, с какой стороны расставлять акценты: рассматривать ли психику, бессознательное или поведение в качестве примера подобной борьбы. При этом Выготский констатирует: тенденция к объединению знания чаще проявляется в рамках борьбы дисциплин; а вот борьба за объяснения ярче выражена в соперничестве между различными школами и концепциями зачастую внутри одной дисциплины. Анализ философии и истории науки позволяет Выготскому выделить определенные тенденции, закономерности в развитии науки (психологии), в развитии ходов, понятий и внутренних дисциплин: «эта правильная повторяемость в развитии различнейших идей ясно говорит с очевидностью, которую редко приходится констатировать историку науки и методологу, об объективной необходимости, лежащей в основе развития науки, о необходимости, которую можно обнаружить, если к фактам науки подойти тоже с научной точки зрения. Это говорит о том, что возможна научная методология на исторической основе» [1, c. 302]. Объясняются эти закономерности через связи науки, во-первых, с общим социо-культурным аспектом, непосредственным соотношением современного уровня развития науки и достижениями предшествующей эпохи, во-вторых, связь обеспечивается общими закономерностями научного познания, и, в-третьих, играет роль особый статус изучаемого материала, природа изучаемой действительности, которая также выдвигает свои требования.
Выготский не упускает из виду собственно когнитивные аспекты науки. Но при этом он акцентирует социо-культурную природу знания, природу идеи. Продолжая применять метод культурно-исторического анализа, психолог выделяет пять стадий развития научной идеи в рамках общего и объяснительного принципов:
-
1 – собственно, открытие (зачастую переворачивающее существовавшие ранее представления в рамках определенной научной дисциплины);
-
2 – развитие и распространение идеи в научных кругах (обладая статусом научного открытия, идея подчас меняет границы научной дисциплины);
-
3 – проявление тенденции к объединению, т.к. идея выходит за пределы одной дисциплины; будучи связанной с ней, она борется за научное господство среди других дисциплин;
-
4 – разъединение понятия и объяснения в самой идее; как только она становится застывшим понятием в рамках своей дисциплины, она перестает развиваться и объяснять, выходя за пределы своей дисциплины, и перестает связывать эту дисциплину с другими, более обширными аспектами науки;
-
5 – однако, приобретя универсальный статус устойчивого мировоззрения, идея перестает существовать в качестве открытия – а становится в один ряд с другими возможными мировоззрениями и дисциплинами, уже без революционного, переворачивающего науку контекста.
Объединяющий и объяснительный принципы Выготского коррелятивны в когнитивном аспекте. Как только идея закостеневает, превращается в устойчивое знание, концепцию или теорию с мировым именем – она становится частью науки, занимает свое определенное место в иерархии, и далее служит лишь ступенью для новых идей и открытий. Однако сами эти идеи, по мысли Выготского, обусловлены особой научной потребностью, коренящейся непосредственно в природе изучаемых явлений, в природе самой науки – и в психологической действительности, которую она изучает. Также здесь можно говорить и о культурно-исторических основаниях знания: идея порождается в первую очередь эпохой, социальными, культурными и историческими контекстами, влияющими в разной степени на ее специфику. Выготский пишет о подобных идеях: даже имея статус научного открытия, научного факта, идея все равно проявляет свои особенности: ведь создана она была в определенных социальных кругах, в определенную эпоху, и вполне возможно отследить предшествующие ей (и порой, предсказывающие ее) мысли и открытия.
В книге «Исторический смысл психологического кризиса» Л.С. Выготский прослеживает судьбу четырех современных ему психологических школ: психоанализ, рефлексологию, гештальтпсихоло-гию и персонализм. Он не анализирует всю историю психологических идей от их зарождения. Но на примере этих четырех школ Выготский прослеживает вышеперечисленные ступени развития – от научного открытия до устоявшейся части научной дисциплины. Выготский не случайно берет направления, наиболее распространенные в тогдашней научной психологической среде: это позволило ему в достаточной мере проанализировать и сами идеи, и непосредственно эпоху, исторические особенности, повлиявшие на их появление, развитие и изменения. Он ловит некий методологически общий мотив, который позволяет ему снова говорить о необходимости общей науки как выхода психологии его времени из когнитивного кризиса: «Закономерность того пути, который с удивительным постоянством проделывают самые разные идеи, конечно, свидетельствует о том, что путь этот предопределен объективной потребностью в объяснительном принципе, и именно потому, что такой принцип нужен и что его нет, отдельные частные принципы занимают его место. Психология осознала, что для нее вопрос жизни и смерти – найти общий объяснительный принцип, и она хватается за всякую идею хотя бы и недостоверную» [1, c. 309].
Таким образом, анализируя судьбы психологических идей, Выготский делает два методологических вывода: во-первых, в любом научном понятии, сколь бы абстрактно оно ни было, всегда присутствует элемент исторической реальности, в рамках которой оно создавалось, и, во-вторых, даже в самом естественно-научном, эмпирическом факте «уже заложена первичная абстракция. Факт реальный и факт научный тем и отличаются друг от друга, что научный факт есть опознанный в известной системе знания реальный факт, т.е. абстракция некоторых черт из неисчерпаемой суммы признаков естественного факта» [1, c. 309].
Общая наука для Выготского – путь выхода из кризиса. Психология не может работать только с абстрактными понятиями, так же как не станет оперировать голыми эмпирическими фактами. Она выходит за пределы отдельных дисциплин, одновременно объединяя их; фактически, это методологический инструмент, позволяющий избежать когнитивного коллапса, порождаемого множеством частных наук, дисциплин и теорий. Суть психологического кризиса, о котором рассуждает Выготский, – в отделении прикладной и академической ветвей психологии, и неравномерное их усиление, «…развитие прикладной психологии во всем ее объеме – главная движущая сила кризиса в его последней фазе» [1, c. 309]. Для Выготского это развитие имеет одновременно историческое и философско-методологическое значение. В его время, когда ключевую роль стали играть практические достижения, разрыв между экспериментальной и научной психологией заставил пересмотреть статус знания, ценность и достоинство знания в фундаментальной и прикладной науке. Но он же заставил искать выход из сложившейся ситуации в науке, а значит – продолжать исследования, выходя на более высокие уровни.
Список литературы Соотношение когнитивных и ценностных компонентов знания в психологических исследованиях Л. С. Выготского
- Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса//Выготский Л.С. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 1. М., 1983.
- Лекторский В.А. Возможна ли интеграция естественных наук и наук о человеке//Вопросы философии. 2004. № 3. С. 44-49.