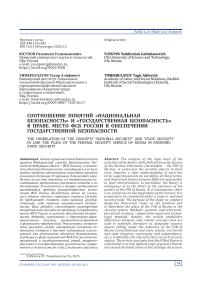Соотношение понятий «национальная безопасность» и «государственная безопасность» в праве. Место ФСБ России в обеспечении государственной безопасности
Автор: Юсупов Р.Г.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Публично-правовые (государственно-правовые) науки
Статья в выпуске: 2 (80), 2025 года.
Бесплатный доступ
Анализ правовых основ деятельности органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации (далее – ФСБ России), в частности объектов безопасности, находящихся в их поле зрения, требует однозначного понимания каждого ключевого термина. В правовых документах определены не все эти термины, а в теоретических исследованиях предложены различные подходы к их толкованию. В частности, в теории неоднозначно оцениваются пределы распространения полномочий ФСБ России. Вследствие этого не сложилось единого мнения о правовом статусе Службы. Ее предлагают считать либо органом государственной, либо органом национальной безопасности. Цель работы: сопоставить разобщенные теоретические взгляды на проблему и определить место ФСБ России в системе обеспечения безопасности. Методы: системного и структурно-функционального анализа, сравнительно-правовой и формально-юридический. Результаты: установлены различия между некоторыми близкими понятиями, которые в научной литературе используются для обозначения объектов безопасности, входящих в сферу полномочий ФСБ России (конституционный и государственный строй, территориальная и государственная целостность, суверенитет и независимость и др.); выявлены признаки таких объектов безопасности; сделан вывод, что ФСБ России наделена строго определенным объемом полномочий, не выходящих за пределы одного из стратегических направлений обеспечения безопасности, выделенных в Стратегии национальной безопасности РФ, а именно обеспечения государственной и общественной безопасности. При этом обеспечение государственной безопасности является приоритетным. Общественный компонент обеспечения безопасности системой ФСБ России проявляется в случаях совокупного эффекта.
ФСБ России, национальная безопасность, государственная безопасность, общественная безопасность, государственный строй, государственный суверенитет, независимость государства, государственная и территориальная целостность
Короткий адрес: https://sciup.org/142244967
IDR: 142244967 | УДК: 340.113+342 | DOI: 10.33184/pravgos-2025.2.5
Текст научной статьи Соотношение понятий «национальная безопасность» и «государственная безопасность» в праве. Место ФСБ России в обеспечении государственной безопасности
Уфимский университет науки и технологий, Уфа, Россия, e-mail: ,
ТИМЕРБУЛАТОВ Тагир Алифович Башкирский институт социальных технологий (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений», Уфа, Россия, e-mail: ,
Исследование вопросов, связанных с регулированием деятельности органов ФСБ России, должно опираться как минимум на четкие теоретические представления об объектах безопасности. Безопасность как объект – широкое понятие, которое в полном объеме не входит в сферу полномочий ФСБ. Обеспечением безопасности в рамках государственных полномочий занимаются различные службы, и помимо ФСБ России к их числу относятся МВД РФ, Министерство обороны РФ и др.
На первый взгляд, объект безопасности для ФСБ России определен в самом названии Службы – Российская Федерация, то есть государство. К слову, признано, что это ведомство является преемником Комитета государственной безопасности СССР [1, с. 25]. Заметим, что в названии советского ведомства не только присутствует название государства, но и уточняется объект безопасности, чего нет в российской ономастической вариации. Это обстоятельство породило разночтения в научной литературе. Есть мнение, что ФСБ России – орган национальной безопасности [2, с. 95–96]. Есть и другое мнение, что такая позиция является «главной ошибкой исследователей», ибо ФСБ России – орган государственной безопасности [3, с. 70]. По смыслу публикации Д.А. Абубекеровой национальная безопасность и государственная безопасность – тождественные понятия [4], а по мнению Т.В. Владимировой, государственную и национальную безопасность отождествляют «в России многие» [5, с. 19].
Из сказанного следует, что среди теоретических аспектов исследуемой проблемы стоит выделить терминологический аспект.
Национальная и государственная безопасность в праве и теоретических исследованиях
Прежде всего уточним, в чем заключается разница между национальной безопасностью и государственной безопасностью.
Национальная безопасность определена в п. 5 Стратегии национальной безопасности РФ (далее – Стратегия) как «состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граж- дан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, социально-экономическое развитие страны»1. Поскольку речь идет о национальных интересах Российской Федерации, документ определяет и это понятие: «объективно значимые потребности личности, общества и государства в безопасности и устойчивом развитии». Ориентируясь на приведенные официальные определения, констатируем, что национальная безопасность распространяется на личность (личная безопасность), общество (общественная безопасность) и государство (государственная безопасность).
В п. 26 Стратегии обозначены стратегические национальные приоритеты: 1) сбережение народа России; 2) оборона страны; 3) государственная и общественная безопасность; 4) информационная безопасность; 5) экономическая безопасность; 6) научно-технологическое развитие; 7) экологическая безопасность; 8) защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти; 9) стратегическая стабильность и взаимовыгодное международное сотрудничество. Отметим важный момент: если национальная безопасность в Стратегии определена, то государственная упоминается без определения и в устойчивом сочетании «государственная и общественная безопасность». Причем по целям государственной и общественной безопасности, изложенным в п. 46 Стратегии, можно составить представление о сущности этого расширенного понятия. Защите подлежат конституционный строй, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность Российской Федерации, основные права и свободы человека и гражданина, гражданский мир, политическая и социальная стабильность в обществе, традиционные российские духовно-нравственные ценности и т. д. Не приводим весь перечень, поскольку, на наш взгляд, раздел государственного и общественного компонентов очевиден.
Таким образом, разница между национальной безопасностью и государственной безопасностью существует: национальная безопасность – более широкое понятие, объединяющее несколько видов безопасности, включая государственную; государственная безопасность в Стратегии в отдельную категорию не выделена и упоминается в связке с общественной безопасностью.
Объекты, субъекты, угрозы государственной безопасности
Приведенные фрагменты Стратегии позволяют перейти к следующему вопросу – к выявлению объектов государственной безопасности, то есть того, на что направлена защитная деятельность. Методом исключения выбираем конституционный строй, суверенитет, независимость, государственную и территориальную целостность Российской Федерации. Суть государственной безопасности предлагаем понимать как обеспечение защищенности перечисленных объектов от внешних и внутренних угроз.
Теперь рассмотрим примеры трактовки государственной безопасности в научной литературе. Так, Я.В. Васильева определяет ее как «защиту государства от внутренних и внешних угроз, позволяющую ему обеспечивать свою независимость во всех сферах жизнедеятельности, целостность территории и обороноспособность, конституционный строй, конституционные права и свободы человека и гражданина» [6, с. 58]. По мнению Д.В. Ирошникова, государственная безопасность – это «состояние защищенности государственного строя, государственных органов, территориальной целостности государства, а также его суверенитета от внутренних и внешних угроз» [3, с. 65]. Даже на малом количестве примеров видим, что расхождения со Стратегией имеются. В первом определении упомянута обороноспособность, что логично, но в Стратегии оборона выделена в самостоятельное стратегическое направление национальной безопасности со своими целями и задачами. А защита конституционных прав и свобод человека и гражданина, на наш взгляд, имеет отношение к общественной и личной безопасности. Во втором определении упомянуты такие объекты безопасности, как государственный строй (в Стратегии – конституционный) и государственные органы.
Термин «государственный строй» является дискуссионным. Как пишет Д.А. Авдеев, в научной литературе распространено мнение, что государственный строй следует понимать как «способ функционирования государственной власти и соответствующую ему систему социальных, экономических и политико-правовых отношений, устанавливаемых и закрепляемых конституционным законом» [7, с. 26]. Остается разобраться, корректно ли подменять понятие «государственный строй» понятием «конституционный строй». Учтем, что конституционное право оперирует также понятием «общественный строй», определяет положение личности в общественной и государственной жизни [8, с. 23], из чего следует, что конституционный строй и государственный строй – не одно и то же.
Есть и другие подходы к толкованию понятия «государственный строй». Д.А. Авдеев предлагает различать формально-юридическую статичную модель государственного строя (закрепленную в Конституции) и динамичную модель (действительную, складывающуюся под влиянием меняющихся обстоятельств) [7, с. 26]. Опустим другие примеры (хотя с теоретической точки зрения они интересны), поскольку нам важно четко определить, как понимать государственный строй в контексте обеспечения государственной безопасности.
Компактное представление о понятии предложили Н.С. Шашина и В.В. Ходырев. По их мнению, государственный строй есть отражение политического режима, формы правления государства и формы государственного устройства. Причем политический режим (демократический, антидемократический) играет ведущую роль в формировании государственного строя – от него зависят и форма правления (монархия, республика), и форма государственного устройства (унитарная, федеративная) [9, с. 35]. Так же компактно государственный строй России определен в ст. 1 Конституции РФ: Российская Федерация есть «демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления». Изучив вопрос, согласимся с Д.В. Ирошниковым в том, что государственный строй логично считать объектом государственной безопасности.
Рассмотрим также предложение Д.В. Иро-шникова считать объектом государственной безопасности государственные органы. Здесь отметим, что на момент публикации (2011 г.) действовала Стратегия национальной безопасности РФ 2009 г., в п. 37 которой указывалось на «деятельность террористических организаций, группировок и отдельных лиц», направленную среди прочего «на дезорганизацию нормального функционирования органов государственной власти (включая насильственные действия в отношении государственных, политических и общественных деятелей)»2. В ныне действующей Стратегии такого тезиса нет, что не умаляет важность проблемы. К слову, проблема на самом деле не может считаться и не считается решенной. Достаточно сказать, что в России существует Федеральная служба охраны (ФСО), которой в первую очередь вверено обеспечение безопасности государственных органов и их представителей.
Полагаем, что указанную проблему в плане государственной безопасности можно считать более широкой. На наш взгляд, акцент стоит сместить с собственно государственных органов в сторону государственного устройства (в России – федеративного). Сразу оговоримся, что государственный строй и государственное устройство соотносятся как общее и частное. Признание государственного строя объектом государственной безопасности переносится на государственное устройство. Тем не менее данный вопрос заслуживает внимания.
Государственное устройство прямо связано с государственными органами и в целом с государственной властью, которая является одним из основных признаков государства. Собственно государственное устройство в широком смысле понимается как политико-территориальная организация государственной власти. Даже установленные в теории формы государственного устройства на практике не подразумевают однозначности. Разновидности есть у всех форм, как у унитарной (с единой системой высших органов власти), так и у федеративной (с двумя системами высших органов власти: федерация и субъекты федерации).
Федеративные государства могут быть построены либо по национально-территориальному, либо по территориальному принципу [10, с. 19]. В США или Австралии, например, национальный фактор априори не имел значения, ибо коренное население при установлении государственного устройства игнорировалось. А, скажем, в Бельгии этнический состав населения во многом повлиял на характер административно-территориального деления, формирование органов власти и их взаимодействие. Каждая страна в этом плане уникальна. В литературе можно встретить скептическое отношение к федерациям, построенным по национально-территориальному принципу. О нежизнеспособности таких государств рассуждал, например, Р. Галлис-со, считая их уделом выяснение отношений и конфликты [11, с. 15]. Скажем больше: истории известны случаи, когда при формировании субъектов федерации национальный фактор осознанно игнорировался (использовался территориальный принцип), в результате чего каждый этнос был «растворен» в разных субъектах федерации без права доминирования. Так было, например, в Нигерии [10, с. 20].
Полагаем, версия о несостоятельности федераций с национально-территориальным устройством имеет несколько предвзятый характер. Во-первых, у межнациональных конфликтов слишком сложная природа, не всегда упирающаяся в национально-территориальное устройство федерации и, к слову, нередко связанная с влиянием извне. Во-вторых, все формы государственного устройства несовершенны, то есть имеют свои плюсы и минусы, в том числе в плане межнациональных отношений. Широко известны конфликтные позиции, например, Каталонии в Испании или Шотландии в Великобритании. Между тем речь идет не о федерациях, а об унитарных государствах. В-третьих, внутригосударственные конфликты могут иметь не только национальную природу. Тем не менее риски национально-территориальных федераций игнорировать нельзя, как, кстати, нельзя игнорировать риски навязывания сугубо территориального устройства в многонациональных государствах.
Россия – федерация, построенная по национально-территориальному принципу. Конституция РФ признает равенство субъектов Российской Федерации, при этом между субъектами (республиками, областями, краями и пр.) существует разница. К тому же в России наций больше, чем национальных республик – субъектов Федерации [10, с. 34–35, 47]. К этому добавим, что опыт преодоления конфликтов на национальной почве в России имеется. Изложенное подтверждает, что государственное устройство является объектом государственной безопасности.
Теперь рассмотрим, как в теории понимаются объекты государственной безопасности, которые выделены из определений Стратегии: суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность.
Прежде всего обратим внимание на то, что в литературе понятие «суверенитет» (речь о государственном суверенитете) объясняется через понятия «верховенство», «полновластие», «самостоятельность», «независимость» и пр. [3, с. 67; 12, с. 13]. Соответственно, возникает вопрос о тождественности суверенитета и независимости. Поскольку в Стратегии эти понятия перечисляются как неравнозначные, необходимо разобраться, какая между ними разница.
Зависимость или независимость может быть от чего-то или кого-то (касательно суверенитета так вопрос не стоит). В теории государства подразумевается независимость от власти другого государства (или государств) и иного вмешательства извне. При этом предполагается, что в юридическом плане абсолютной государственной независимости не бывает, потому что существует международное право [13, с. 5]. Впрочем, в наши дни нормы международного права попираются в интересах сверхдержавы, претендующей на роль мирового гегемона и вмешивающейся во внутреннюю и внешнюю политику других государств. И это подчеркивает значение обеспечения государственной безопасности в отношении объекта, именуемого государственной независимостью. На данном этапе подытоживаем: независимость государства обусловлена внешними факторами, но имеет прямое отношение не только к внешней политике этого государства, но и к проведению внутренней политики в пределах собственной территории без давления извне. Нормы международного права в определенном смысле можно рассматривать как ограничитель независимости государств, при этом важно понимать, что они едины для всех государств, их признавших, и при условии их соблюдения всеми участниками концепт государственной независимости не разрушается.
Суверенитет государства – понятие более широкое. Есть научные исследования, согласно которым государственная независимость – «элемент государственного суверенитета» [14, с. 78]. Уже на этом этапе становится понятно, что близкие по значению понятия, через которые в различных определениях объясняется государственный суверенитет, не обязательно синонимы (как в случае с независимостью). Это могут быть элементы государственного суверенитета. Другое дело, что в различных трудах перечень элементов может не совпадать.
Так, А.Л. Бредихин и Е.Д. Проценко в качестве элементов государственного суверенитета рассматривают независимость, верховенство и единство государственной власти, неограниченность суверенитета. Верховенство означает, что более высокого или равного уровня не существует. Верховенство государственной власти означает, что ее решения обязательны для всех, находящихся в пределах государства. «На территории одного государства, – пишут авторы, – может быть только одна верховная власть, над которой нет субъекта, имеющего возможность влиять на принятие ею решений» [13, с. 9].
Говоря о единстве государственной власти, А.Л. Бредихин и Е.Д. Проценко уточняют: «Система органов государства составляет в совокупности единую государственную власть» [13, с. 7]. Здесь требуются пояснения.
Не возникают вопросы, если речь идет об абсолютной/самодержавной монархии. В этом случае единство олицетворяет монарх. Но такая форма правления в подавляющем большинстве государств ушла в прошлое. С развитием государственности в Западной Европе актуализировалась концепция разделения властей (с конца XVII в.). Суть ее удачно изложил Н.И. Грачев: разделение «единой по своей первоначальной сущности верховной власти» на три самостоятельные ветви (законодательную, исполнительную и судебную), а по сути замена монарха на государственный аппарат есть способ недопущения концентрации властных полномочий в одном верховном органе, «что служит организационно-правовой гарантией обеспечения прав и свобод личности». Нами исследуются элементы государственного суверенитета, и в этой связи обратим внимание на то, что Н.И. Грачев говорит о единстве именно верховной власти и ее разделении. Законодательную верховную власть олицетворяет «парламент, состоящий из одной или двух палат, исполнительную – глава государства и (или) правительство, судебную – высшие судебные инстанции» [15, с. 42]. Поскольку существуют разные формы государственного устройства, в том числе иерархичная федеральная, считаем, это важный момент. Как пишут А.Л. Бредихин и Е.Д. Проценко, единство суверенитета означает, что «в государстве не может существовать несколько суверенов», а значит, единым сувереном федерации является федерация, в то время как субъекты федерации «передали либо оставили свой суверенитет в пользу единого суверенитета федерации» [13, с. 8].
Отметим еще один важный момент. Только единство государственной власти способно обеспечить достижение целей и решение задач, стоящих перед государством и его народом. Но в условиях разделения властей и наличия властной иерархии для этого требуются согласованность и единство действий всех органов и уровней системы государственной власти, а значит, единый координационный центр, или непосредственный носитель верховной власти, «поддерживающий организационное, правовое и функциональное единство в построении и деятельности государственного аппарата» [15, с. 39–40]. Формат статьи не позволяет подробно рассмотреть, как сформирован этот институт в государствах с разными политическими традициями (вопрос освещен в статье Н.И. Грачева), но мо- жем, опираясь на исторические факты, утверждать, что разрушение единого и независимого верховного центра власти ставило на грань разрушения или приводило к разрушению государства, в том числе империи (в частности, Российскую империю). К слову, распад СССР был мощно подпитан принятием в июне 1990 г. Декларации «О государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики», находящейся в составе СССР.
Изложенное подводит к мысли, что суверенитет государства может быть обеспечен не только хорошо организованной, но и сильной властью. В этом плане интерес представляет выделенный А.Л. Бредихиным и Е.Д. Проценко элемент суверенитета, который в их статье обозначен как неограниченность.
В теории вопрос о неограниченности (абсолютизме) суверенитета обсуждается не одно столетие. Суть дискуссий в том, что фактические ограничители существуют. К ним можно отнести и международное право, и внутриполитические обстоятельства различной природы. Если исходить из того, что суверен не ограничен ничем, то любой ограничитель, по мнению ряда мыслителей, приводит к тому, что «он a priori перестает быть сувереном» [12, с. 17]. Но этот строгий и безапелляционный подход обесценил саму идею государственного суверенитета, поскольку с ограничителями имеет дело любое государство. И даже оформился тезис, согласно которому суверенитет есть «категория метафизического порядка или плод воображения» [12, с. 43]. Между тем, вопреки подобным теоретическим воззрениям, сами государства оперируют этим понятием, используя его в том числе в официальных документах. Значит, вкладывают в него вполне определенный смысл. Теоретикам пришлось приспосабливаться и предлагать более гибкие толкования. Вариаций много: от оставления за сувереном монопольного права принимать политические решения, выходящие в чрезвычайных ситуациях за пределы им же установленного права, до возможности вести войну, способности влиять на другие государства и пр. Обобщенный вариант предложил В.В. Иванов. Автор, правда, называет суверенитет претензией на суверенитет, но характеризует явление достаточно емко, ука- зывая на важное условие – наличие сильной власти. Сильная власть поддерживается населением, контролирует территорию государства, обеспечивая стабильность и порядок и, не допуская конкурирующих проявлений силы, эффективно управляет ею, а во внешнем плане надежно защищает государственную границу и утверждает себя «в качестве равноправного партнера, союзника, конкурента или гегемона». Понятно, что суверенитет подразумевает также принятие соответствующей декларации и внешнее признание, заключающееся, прежде всего, в установлении дипломатических отношений (формальный суверенитет). Отсутствие даже претензий на суверенитет В.В. Иванов представил как постоянную политическую и экономическую зависимость от другого государства (государств), международных организаций или транснациональных корпораций ввиду «бедности, интеллектуальной, технологической и инфраструктурной отсталости», оккупации части территорий, а также отсутствия формальных признаков суверенитета [12, с. 56, 61]. К слову, в последние годы стала очевидной возможность утраты государственного суверенитета даже развитыми странами.
Можно согласиться с тем, что абсолютного суверенитета не существует, поскольку есть ограничители. Но с практической точки зрения не признавать на этом основании суверенитет в принципе бессмысленно. Суверенитет, по мнению Е.Г. Шикановой, «не рассматривается в настоящее время, в отличие от прошлого, как неограниченный и абсолютный, а находится в определенных отношениях с другими основополагающими, общепризнанными принципами международного и конституционного права» [16, с. 275]. А на данном этапе уже ясно, что понимается под государственным суверенитетом как объектом государственной безопасности. Не будем разворачивать тему еще более подробно, но заметим, что государственный суверенитет как минимум обозначает независимость государственной власти от деструктивного влияния (внешнего и внутреннего) и самостоятельность в принятии решений.
Объектами государственной безопасности являются также государственная и терри- ториальная целостность. Понятия очень близки по смыслу, но их необходимо различать.
Территория – пространственная категория. Соответственно, территориальная целостность – это неделимость пространства внутри установленных и официально обозначенных государственных границ. Постановка вопроса о защите территориальной целостности России связана с определенными сложностями, поскольку речь не только о том, что необходимо защищать границы и территорию внутри границ от внешних посягательств. Есть так называемые спорные территории. Япония, например, претендует на часть российских Курильских островов. Особая тема – ресурсная арктическая зона в Северном Ледовитом океане, где сосредоточены интересы прибрежных государств: России, США, Канады, Норвегии и Дании. Проблема в том, что международно-правовой статус Арктики до конца не урегулирован, а с 2014 г. (и особенно с 2022 г.) методично подрывалось сотрудничество арктических государств (отказ от сотрудничества с Россией в связи с событиями на Украине)3. Но при любых обстоятельствах, согласно Конституции РФ, «Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории» (п. 3 ст. 4).
Государственная целостность не выходит за пределы территориальной целостности, но рассматривается в другом контексте – как явление, связанное с государственным устройством и суверенитетом государства. Россия – федеративное государство, и ее территория, согласно ч. 1 ст. 67 Конституции РФ, включает «территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними». Суверенные права Российской Федерации, согласно ч. 2. ст. 67, распространяются на континентальный шельф (имеется в виду континентальный шельф Российской Федерации) и исключительную экономическую зону (имеется в виду исключительная экономическая зона Российской Федерации, простирающаяся от исходных линий ее арктического побережья на 200 морских миль).
К каждому из перечисленных территориальных объектов требуется особый подход, и к территориям российских регионов (особенно национальных) в том числе. Существует угроза возможных притязаний субъектов Российской Федерации на независимость, то есть на собственный суверенитет [16, с. 276], чему интенсивно способствуют третьи страны, стремящиеся разрушить государственную целостность России, которым, по словам Президента РФ, «вместо России нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все что угодно»4. В этой связи в Конституции РФ среди основ федеративного устройства указана именно государственная, а не территориальная целостность (ч. 3 ст. 5).
В публикации А.А. Анохиной приведено несколько определений государственной целостности от разных авторов. Есть и такое: государственная целостность – «свойство, характеризующее наличие устойчивых взаимосвязей между гражданами и государством, единство власти на всей территории государства и территориальную целостность» [17, с. 332]. Это определение показательно демонстрирует разницу между государственной и территориальной целостностью.
Чтобы утвердиться или не утвердиться во мнении, что ФСБ России является органом государственной безопасности, рассмотрим еще два понятия – «угрозы государственной безопасности» и «субъекты государственной безопасности».
В Стратегии дано определение угроз национальной безопасности: «совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность причинения ущерба национальным интересам Российской Федерации», которые, как мы знаем, связаны с потребностями личности, общества и государства. Соответственно, угрозы государственной безопасности следует толковать как совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность причинения ущерба государственным интересам Российской Федерации. На самом деле сложно однозначно разделить угрозы госу- дарственной и общественной безопасности (Стратегия их и не разделяет), тесно связаны с ними угрозы безопасности экономической, информационной и др. Но стоит признать, что с практической точки зрения этот факт означает необходимость взаимодействия различных компетентных ведомств. Что же касается непосредственно угроз государственной безопасности, то под ними, с учетом изложенного, будем понимать угрозы государственному строю, суверенитету, независимости, государственной целостности Российской Федерации.
Еще один актуальный с теоретической точки зрения вопрос – о субъектах государственной безопасности. В теории признается, что основным субъектом является государство «в лице его органов» [3, с. 65]. Применительно к Российской Федерации речь, прежде всего, о том, что основным субъектом государственной безопасности может быть только сама Российская Федерация как единственный носитель суверенитета, что и отражено в Конституции РФ. Согласно п. «м» ст. 71 Конституции РФ безопасность находится в ведении Российской Федерации. Согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона «О безопасности» основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности определяет Президент РФ5. Он же, опираясь на конституционную норму, в целях содействия в реализации своих полномочий формирует и возглавляет Совет Безопасности РФ. В перечень вопросов, рассматриваемых Советом Безопасности РФ, включены, в частности, «охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращение внутренних и внешних угроз» (п. «ж» ст. 83 Конституции РФ). Указанные документы регулируют отношения, касающиеся безопасности в целом, и в эту канву встроены отдельные от-ношения,касающиеся государственной безопасности. Но отметим важный момент: указанными документами установлены институты власти, определяющие политику в сфере государственной безопасности и на- правления ее обеспечения (Президент РФ, Совет Безопасности РФ).
Реализация политики в сфере государственной безопасности сосредоточена не в одном органе. Ею в пределах своих полномочий занимаются специально созданные федеральные службы. К их числу Д.В. Ирошников относит ФСБ России, Службу внешней разведки (СВР России), Федеральную службу охраны (ФСО России) [3, с. 68]. А Д.А. Абубекерова включает в этот перечень еще и Государственную фельдъегерскую службу (ГФС России) [4]. Поскольку ГФС России уполномочена обеспечивать доставку и сохранность в том числе секретных и совершенно секретных отправлений органов государственной власти, включая Президента РФ, согласимся с мнением Д.А. Абубекеровой. К этому добавим, что все перечисленные службы отнесены к органам исполнительной власти, руководство которыми осуществляет Президент РФ6. Деятельность этих служб регулируется не неким единым актом о государственной безопасности, а отдельными федеральными законами7.
На данном этапе заключаем, что понятие «государственная безопасность» наполнено реальным и актуальным содержанием. Оно не определено законодательно, но фигурирует в правовых документах и является объектом научных исследований. Это свидетельствует о том, что обеспечение безопасности самого государства обусловлено наличием множества внешних и внутренних угроз.
ФСБ России в системе органов обеспечения безопасности Российской Федерации
Согласно ст. 1 Федерального закона «О федеральной службе безопасности» (далее – Закон № 40) ФСБ России – федеральный орган исполнительной власти, сформированный как единая централизованная система под руководством Президента РФ, представляющая собой широкую сеть управлений, отделов и служб с особыми функциями. Помимо собственно федерального органа обеспечения безопасности, закон выделяет территориальные органы безопасности в субъектах Российской Федерации, органы безопасности в войсках, то есть в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях, пограничные органы безопасности в пограничной службе, другие органы безопасности, а также организации и подразделения, предназначенные для обеспечения деятельности всей системы ФСБ России: авиационные подразделения, центры специальной подготовки, подразделения специального назначения, образовательные и научные организации, военно-строительные подразделения, экспертные, судебно-экспертные, военно-медицинские подразделения и организации и др. (ст. 2). Органы ФСБ России уполномочены осуществлять контрразведывательную, разведывательную, пограничную деятельность, борьбу с терроризмом и преступностью, обеспечивать информационную безопасность и др. (ст. 8).
Обратим внимание: контрразведывательную деятельность осуществляют только органы ФСБ, поэтому она регулируется Законом № 40 и локальными нормативными правовыми актами. Остальные перечисленные направления деятельности осуществляют ФСБ России и другие федеральные органы государственной власти, не дублируя друг друга, а в пределах своих полномочий. Эти направления деятельности регулируются Законом № 40, другими федеральными законами, совместными нормативными правовыми актами о порядке взаимодействия, а также ведомственными нормативными правовыми актами. Например, разведывательная деятельность регулируется Федеральным законом «О внешней разведке» и другими нормативными правовыми актами. В Федеральном законе «О внешней разведке» указано, что один из принципов разведывательной деятельности – «разделение полномочий» между федеральными органами, ответственными за безопасность Российской Федерации (ст. 4). Это прежде всего Служба внешней разведки РФ, а также органы внешней разведки Министерства обороны РФ и ФСБ России (ст. 11).
Взаимодействие ФСБ России с другими органами по остальным направлениям – тема широкая. Ограничимся лишь примерами угроз, попадающих в сферу внимания ФСБ: шпионаж, незаконный оборот оружия и наркотических средств, контрабанда, организованная преступность, незаконные вооруженные формирования, общественные объединения, нацеленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации (ст. 10 Закона № 40) и т. д. Среди обязанностей (в пределах ведомственных полномочий) – обеспечение безопасности федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, сведений, составляющих государственную тайну, шифрованной, засекреченной связи субъектов Российской Федерации, объектов оборонного комплекса, атомной энергетики, приоритетных научных разработок, в том числе в сфере космических исследований, и т. д. (ст. 12 Закона № 40).
Некоторые исследователи подчеркивают, что полномочия ФСБ России распространяются на различные стратегические национальные направления, обозначенные в Стратегии, то есть не только на государственную и общественную безопасность, но и на информационную, экономическую безопасность, оборону, научно-технологическое развитие и пр. [2, с. 95].
Вновь обратимся к Закону № 40 и рассмотрим отдельные примеры.
Так, защита «экономических и иных законных интересов» Российской Федерации упоминается в ст. 11.1 «Пограничная деятельность». В рамках пограничной деятельности полномочия ФСБ по защите экономических интересов Российской Федерации сосредоточены в пределах приграничных территорий, а также территорий, которые Президент РФ назвал
«неоспоримым приоритетом для России»8, – в пределах исключительной экономической зоны и континентального шельфа. Обеспечение экономической безопасности не упоминается в ст. 10 «Борьба с преступностью», но нет сомнений, что регулируемые этой статьей полномочия ФСБ по борьбе с такими угрозами, как контрабанда, промышленный шпионаж, незаконный вывоз ресурсов стратегического значения, коррупция и т. д., имеют к ней непосредственное отношение. Считаем, что особые возможности ФСБ России не могут не использоваться в борьбе с указанными угрозами, поскольку, напомним, состояние экономики определяет возможность государства поддерживать свою независимость и суверенитет. При этом обратим внимание на то, что ни в одной статье Закона № 40 понятие «обеспечение экономической безопасности» не упоминается, даже в перечне направлений деятельность органов ФСБ России (ст. 8).
Пункт «обеспечение информационной безопасности» в ст. 8 имеется. Пределы полномочий ФСБ указаны в ст. 11.2: в рамках государственной и научно-технической политики Российской Федерации информационная безопасность обеспечивается в том числе с использованием инженерно-технических и криптографических средств в отношении «информационно-телекоммуникационных систем, сетей связи специального назначения и иных сетей связи, обеспечивающих передачу шифрованной информации». Понятно, что у ФСБ в этом плане особые возможности. Этот государственный орган действует по принципу сочетания гласных и негласных методов и средств деятельности, включая конспирацию (ст. 5), и имеет право «без лицензирования разрабатывать, создавать и эксплуатировать информационные системы, системы связи и системы передачи данных, а также средства защиты информации, включая средства криптографической защиты» (ст. 20). А еще понятно, что речь идет не об информации вообще, а об информации, имеющей государственное значение.
Заключение
Проявляющаяся в литературе тенденция объявлять ФСБ России органом национальной безопасности имеет право на существование, поскольку национальная безопасность обеспечивается в том числе этой Службой. Вместе с тем такое мнение представляется слишком натянутым, поскольку в системе государственных органов обеспечения национальной безопасности каждое звено имеет особые функции и сферу ответственности и только вместе они могут рассматриваться в национальном масштабе. Если посмотреть на вопрос с функциональной точки зрения, то следует учесть ряд моментов. Во-первых, деятельность ФСБ России не встраивается во все обозначенные Стратегией направления обеспечения национальной безопасности. Во-вторых, даже в близких в широком смысле функциях (разведка, борьба с преступностью и пр.) ФСБ России, согласно законодательству, взаимодействует со смежными государственными органами, но их полномочия не совпадают. В-третьих, ФСБ России обладает особыми обязанностями, правами и возможностями, которые в первую очередь позволяют реагировать на разноплановые действия зарубежных спецслужб и их ячеек в России, а также внутренних деструктивных сил, что объясняет служебное разветвление, вплоть до встраивания в структуру других силовых и гражданских ведомств, не нацеленное на вмешательство в их официальную деятельность. По этим признакам можно считать ФСБ России органом государственной безопасности.
Мы учли официальную терминологию, которая объединила государственную и общественную безопасность в рамках одного стратегического национального приоритета, и согласимся с тем, что для ФСБ России это непринципиально, ибо ряд ее функций (например, борьба с терроризмом) нацелены на одновременное обеспечение государственной и общественной безопасности. При этом мы учли высокий уровень защиты сведений о ФСБ России и поэтому считаем, что основная цель функционирования Службы – обеспечение государственной безопасности. Общественный компонент обеспечения безопасности возникает в случаях совокупного эффекта.
Наконец, мы учли, что ФСБ России – не единственный государственный орган, ответственный за обеспечение государственной безопасности.
Таким образом, в широком смысле ФСБ России можно считать элементом системы национальной безопасности Российской Фе- дерации, а в узком – элементом системы государственной безопасности с полномочиями, которые сконцентрированы на интересах государства, но в определенном смысле связывают Службу с системой обеспечения общественной безопасности.