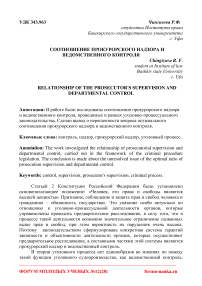Соотношение прокурорского надзора и ведомственного контроля
Автор: Чингизова Р.Ф.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 12-4 (28), 2018 года.
Бесплатный доступ
В работе были исследованы соотношения прокурорского надзора и ведомственного контроля, проводимых в рамках уголовно-процессуального законодательства. Сделан вывод о нерешенности вопроса оптимального соотношения прокурорского надзора и ведомственного контроля.
Контроль, надзор, прокурорский надзор, уголовный процесс
Короткий адрес: https://sciup.org/140281564
IDR: 140281564
Текст научной статьи Соотношение прокурорского надзора и ведомственного контроля
Статьей 2 Конституции Российской Федерации было установлено основополагающее положение: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». Это указание особо актуально по отношению к уголовно-процессуальной деятельности органов, которые управомочены проводить предварительное расследование, в силу того, что в процессе такой деятельности возможно значительное ограничение названных выше прав и свобод, при этом вероятность их нарушения очень высока. Поэтому законодательством сформулирована конкретная система гарантий законности и объективности деятельности органов, которые осуществляют предварительное расследование, а составными частями этой системы являются прокурорский надзор и ведомственный контроль.
В теории уголовного процесса нет единообразия во мнениях по поводу такой функции уголовного судопроизводства, как ведомственный контроль.
Это объясняется тем, что нормы, регулирующие вышеназванную деятельность, возникли относительно недавно.
Олефиренко отметил, что ведомственный процессуальный контроль - это «основное средство обеспечения законности предварительного расследования по уголовному делу руководителем следственного органа, состоящее из регламентированной уголовно-процессуальным законом системы процессуальных действий и решений, связанных с проверкой процессуальной деятельности следователя по выполнению задач уголовного судопроизводства на досудебной стадии производства по конкретному уголовному делу» [5].
Можно увидеть, что ведомственный процессуальный контроль рассматривается Т. Г. Олефиренко применительно к руководителю следственного органа, в то время как данное явление не ограничено только этим участником уголовного процесса со стороны обвинения. Также, в определении названного автора делается упор на проверке выполнения задач уголовного судопроизводства, т. е., по сущности, значительным образом сужается объект ведомственного процессуального контроля. В этом контексте Н. В. Григорьева говорит о том, что исследуемое направление в науке трактуется «в основном применительно к руководителю следственного органа и как уголовно-процессуальная деятельность, а не как средство обеспечения законности» [3].
Федеральный закон Российской Федерации от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ существенно усилил полномочия по проведению ведомственного процессуального контроля по отношению к руководителю следственного органа. До изменений, внесенных вышеупомянутым законом, прокурор обладал значительной частью полномочий на осуществление как организационного, так и процессуального контроля за предварительным следствием. Начальнику следственного отдела была отведена только некоторая доля организационного контроля, а о самостоятельном процессуальном контроле в данном случае не могло идти и речи. Единственное, на что имел право начальник следственного отдела в этом ключе, - вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных или необоснованных постановлений следователя.
В соответствии с действующим законодательством России подавляющий процент полномочий на проведение ведомственного процессуального контроля (и если мы говорим о его разновидностях, как организационных, так и процедурных) с руководителем следственного органа. Он может контролировать и соблюдать административные и правовые нормы, связанные с организацией уголовного преследования, и обеспечивать соблюдение правил уголовно-процессуального права.
По этому поводу И.В. Безрядин отмечает, что в современных условиях глава следственного органа наделен почти всеми контрольными полномочиями в ходе предварительного расследования [1]. В этой связи Ф.Ю. Васильев справедливо говорит о принципе дифференциации полномочий субъектов уголовного преследования, в связи с чем органы прокуратуры не должны дублировать контрольные полномочия руководителей органов предварительного следствия [2].
В.В. Калницкий отметил, что наблюдение за предварительным расследованием - это не единственная деятельность прокурора, поскольку последний также несет ответственность за непосредственное рассмотрение преступлений и направление усилий соответствующих органов в этой области [4].
Если сравнить «надзор» и «контроль», можно заключить, что надзор не имеет «организационного элемента», который позволяет прокурору контролировать соблюдение административно-правовых норм, регулирующих отношения, связанные с организацией уголовного преследования. Иными словами, объектом ведомственного процессуального контроля являются действия органов предварительного следствия и их законности. Объектом прокурорского надзора являются не действия самих органов предварительного следствия, а законность таких действий.
Если говорить о надзоре и ведомственном контроле за предварительным расследованием в форме дознания, то здесь ситуация несколько иная. Современный Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - УПК РФ) оставляет за прокурором некоторые организационные полномочия в отношении дознания, например, давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий. Кроме того, прокурор обладает широкими полномочиями по обеспечению законности в деятельности органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя.
Ведомственный контроль начальника органа дознания или начальника подразделения дознания, в соответствии с действующим законодательством России, состоит в основном в контроле за соблюдением административноправовых предписаний, регламентирующих отношения, которые связаны с организацией уголовного преследования, т. е. в «организационном контроле». Процессуальный же контроль в этом случае сведен к минимуму. Данные лица в рамках контроля, связанного с обеспечением исполнения предписаний уголовно-процессуального закона, имеют право лишь на проверку материалов проверки сообщений о преступлениях и материалов уголовного дела, находящиеся в производстве органа дознания, дознавателя. Поэтому можно говорить о том, что ведомственный процессуальный контроль руководителя следственного органа шире по объему полномочий по сравнению с ведомственным контролем со стороны начальника органа дознания или начальника подразделения дознания.
Вместе с тем можно положить, что осуществляющий надзор прокурор и должностное лицо, уполномоченное проводить ведомственный процессуальный контроль, не должны рассматриваться как соподчиненные руководители. Более верным будет рассматривать прокурорский надзор и ведомственный контроль с точки зрения их относительной самостоятельности, как отдельные направления деятельности различных субъектов. Однако анализируемые правовые явления есть ни что иное, как элементы единой системы гарантий обеспечения законности и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Поэтому возникает вопрос правильного и оптимального сочетания прокурорского надзора и ведомственного контроля, который обеспечивает предельно эффективную реализацию этих функций.
Нельзя также обойти внимание то, что в действующем УПК РФ предоставлено право дознавателю и следователю обжаловать действия (бездействия) и решения прокурора или руководителя следственного органа вышестоящему прокурору или руководителю вышестоящего следственного органа. При этом в юридической литературе ученые возражают против этого, отмечая, что указанные выше должностные лица должны представлять единую и консолидированную позицию в связи с тем, что являются участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
Думается, что наличие у дознавателя и следователя права обжалования действия (бездействия) и решения прокурора или руководителя следственного органа вышестоящему прокурору или руководителю вышестоящего следственного органа достаточно оправданно и целесообразно. Это право также представляет собой элемент системы гарантий по обеспечению законности, содействует предотвращению принятия необоснованных решений и соблюдению прав и свобод человека и гражданина.
Дополнительно к сказанному отметим, что в науке уголовного процесса имеются критерии, по которым возможно разграничение исследуемых нами правовых явлений. Бесспорно, что прокурорский надзор и ведомственный контроль производятся разными субъектами. Эти направления деятельности реализуются соответственно прокурором и руководителем органа предварительного расследования. Предмет и пределы прокурорского надзора в отношении предварительного следствия были существенно сужены вышеупомянутым Федеральным законом Российской Федерации от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ. Прокурорский надзор за деятельностью органов предварительного следствия ограничен проверкой данной деятельности на ее соответствие закону. Предмет и пределы прокурорского надзора в отношении дознания значительно шире в сравнении с надзором за предварительным следствием.
Основанием для осуществления прокурорского надзора в отношении органов предварительного следствия служит любое принятое ими процессуальное решение и совершенное действие, т. е. в данном случае надзор носит характер последующей проверки. Если говорить о прокурорском надзоре за дознанием, то поводом может служить не только уже принятое решение или уже совершенное действие, но и мероприятия, которые должны совершиться в будущем, т. е. такой надзор носит предупреждающий характер. Прокурор, к примеру, дает согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, допускаемого на основании судебного решения. Касательно времени осуществления прокурорского надзора и ведомственного контроля, можно сказать, что эти направления деятельности проводятся в постоянном режиме.
Разграничивая прокурорский надзор и ведомственный контроль по объему полномочий, необходимо понимать, что руководитель следственного органа обладает определенной процессуальной самостоятельностью по отношению к прокурору, что дает первому более широкие полномочия. Относительно начальника органа дознания, начальника подразделения дознания заметим, что круг их полномочий по контролю за предварительным расследованием значительно уже, что говорит об относительной несамостоятельности и зависимости упомянутых участников уголовного судопроизводства от прокурора.
Таким образом, вопрос определения оптимального соотношения прокурорского надзора и ведомственного контроля на текущий момент является не разрешенным, продолжая оставаться актуальным и дискуссионным в науке уголовного процесса. Так, например, вышеприведенный анализ мнений отдельных ученых-процессуалистов свидетельствует об отсутствии устоявшейся модели сочетания рассматриваемых функций государственных органов и должностных лиц.
Список литературы Соотношение прокурорского надзора и ведомственного контроля
- Безрядин В. И. О некоторых вопросах соотношения полномочий надзора и процессуального контроля руководителя следственного органа в досудебном производстве // Юридическая наука: история и современность. - 2015. - № 1. - С. 109.
- Васильев Ф. Ю. Прокурорский надзор и ведомственный контроль в механизме обеспечения законности решений об отказе в возбуждении уголовного дела // Вестник Санкт- Петербургского университета МВД России. - 2015. - № 2 (66). - С. 69.
- Григорьева Н. В. К вопросу о ведомственном процессуальном контроле в уголовном судопроизводстве // Вестник экономической безопасности. - 2016. - № 5. - С. 128.
- Кальницкий В. В. Соотношение ведомственного процессуального контроля и прокурорского надзора за предварительным следствием // Вопросы теории и практики уголовного судопроизводства. - Омск: Ом. акад. МВД РФ, 2016. - С. 10.
- Олефиренко Т. Г. Ведомственный процессуальный контроль как основное средство руководителя следственного органа по обеспечению законности предварительного расследования // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2014. - № 2, ч. 2. - С. 148-150.