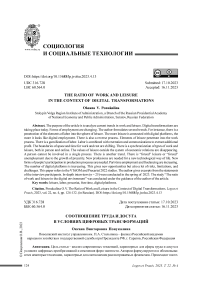Соотношение труда и досуга в условиях цифровых трансформаций
Автор: Понукалина О.В.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Социология и социальные технологии
Статья в выпуске: 4 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - анализ современных тенденций, характерных для сферы труда и досуга в условиях цифровых преобразований и изменения форм занятости. Автором формулируются и обосновываются некоторые тенденции, характерные для соотношения рассматриваемых феноменов. Происходит постепенное проникновение элементов труда в сферу досуга; чем больше досуг становится опосредован технологиями и связан с цифровыми платформами, тем больше он преобразуется в цифровую занятость. Выявляется и обратный процесс: элементы досуга встраиваются в производственное пространство. Обнаруживаются процессы геймификации труда, наполнение его рекреационными и коммуникативными составляющими для извлечения дополнительной прибыли. Усиливается диффузия пространственно-временных границ труда и отдыха. Возможной и привлекательной оказывается синхронизация видов досуговой и трудовой активности через совмещение очных и онлайн-форматов. В связи с этим наблюдается некая девальвация ценности досуга вне системы экономических отношений. Постепенно утрачивается способность человека находиться в монопроцессе, будь то на работе, учебе или на досуге. Еще одна тенденция - появление «вынужденного» досуга или «вынужденной» незанятости в связи с ростом прекарности. Для нового технологического уклада характерны новые профессии и формы участия людей в производственных процессах. Цифровые платформы, проектные работы, частичная занятость и фриланс набирают обороты, неся с собой как новые возможности, так и множество рисков, ограничений и вызовов. Выявленные тенденции подкрепляются данными опросов ВЦИОМ и обращением к данным, полученным социологами в ходе общероссийских исследований «Прекариат-2022». В качестве иллюстративного материала автор приводит выдержки из высказываний информантов. Глубинные интервью (n = 25) проводились весной 2023 г. в рамках исследования «Соотношение труда и досуга в цифровой среде» под руководством автора статьи.
Досуг, труд, прекариат, свободное время, цифровые платформы
Короткий адрес: https://sciup.org/149145065
IDR: 149145065 | УДК: 316.728 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2023.4.13
Текст научной статьи Соотношение труда и досуга в условиях цифровых трансформаций
DOI:
Оптимистичные прогнозы о соотношении труда и досуга, выдвигаемые в середине ХХ в. многими социальными исследователями не оправдались. Возрастание производительности труда, внедрение автоматизации, роботизации, а в последующем и цифровизация, не привели к масштабной замене труда отдыхом. Однако происходият неизменные трансформации смыслового наполнения труда и досуга, усиление проницаемости их границ и изменение баланса. В трудовой сфере появляются более гибкие и гибридные формы занятости, набирает обороты тенденция к прекаризации. Это происходит вследствие и/или по причине того, что на смену индустриальным профессиям приходят профессии цифрового мира.
По мере перехода от индустриальной эпохи к эре цифровых технологий кардинально меняются представления о досуге и сами досуговые практики. Если в первом случае досуг дополняет трудовую деятельность, служит целям восстановления сил для работы, то во втором – происходит их тесное переплетение.
Процессы, происходящие на границе соотношения сфер труда и досуга, определяемые культурной логикой современного развития, становятся технически обусловленными цифровизацией повседневности. Но простая констатация данного факта недостаточна. Мно- гие социальные исследователи этого феномена стремятся обнаружить возможности и пути преодоления зацикленности современного человека на вопросах заработка и потребления. Понимание происходящего затруднено без эмпирических исследований, социологической рефлексии и психолого-экономической экспертизы происходящего. Данные обстоятельства обусловливают актуальность исследования.
Выделим некоторые разнонаправленные тенденции, формирующиеся на границе соотношения труд – досуг:
– проникновение элементов труда в сферу досуга; преобразование цифрового досуга в цифровую занятость;
– внедрение элементов досуга в производственное пространство. Геймификация труда, наполнение его рекреационными и коммуникативными составляющими для извлечения дополнительной прибыли;
– диффузия пространственно-временных границ труда и отдыха. Синхронизация видов досуговой и трудовой активности;
– вынужденный досуг или вынужденная незанятость в связи с неполной непостоянной занятостью, ростом прекарности.
Проанализируем данные тенденции, опираясь на результаты эмпирических исследований. Далее будут представлены выдержки из высказываний участников глубинных интервью (n = 25). В качестве информантов вы- ступали жители российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Волгограда, Пензы; их возраст от 18 до 36 лет. Интервью проводились онлайн, весной 2023 г. в рамках исследования «Соотношение труда и досуга в цифровой среде» (под руководством автора статьи).
Согласно стратегии исследования, категории анализа разрабатывались на основе понятий «труд», «досуг» и «цифровые платформы»; фокусировка исследовательского внимания – на те практики, которые попадают в область «пересечения» данных понятий. Основным критерием отбора информантов при построении выборки послужил тип занятости.
Выборка для глубинного интервью формировалась по следующим критериям: 1) имеющие постоянную занятость ( n = 9); 2) прекарно занятые ( n = 10); 3) безработные ( n = 6). Все информанты также идентифицировались как активные пользователи сети Интернет. Рекрутинг информантов производился онлайн (посредством личных социальных связей, а также через различные сообщества в социальных сетях). Интервью проводилось по гайду, составленному из открытых вопросов. При обработке полученных данных применялся метод «обоснованная теория».
Проникновение элементов труда в сферу досуга
К первой тенденции можно отнести мягкое подталкивание заниматься на досуге экономической активностью с тенденцией перехода от потребления к производству или его видимости. Тенденция трансформации досуга в «новую занятость» сегодня ярко проявляется именно в контексте возможностей социальных цифровых платформ. Под цифровыми платформами, резко набравшими популярность с приходом цифровизации, чаще всего подразумевают коммуникационную и транзакционную среду, в которой участники рынка имеют возможность взаимодействовать друг с другом, а также извлекать прибыль [Цифровые платформы... web].
По сути досуг, опосредованный ими, превращается в «цифровой досуг», и его граница с «цифровым трудом» не очевидна. «Я всегда много времени проводила в соцсеях.
Как сейчас говорят, у меня большая “на-смотренность”. И писать, постить и релизы делать мне тоже всегда нравилось. И как-то незаметно я на этом стала зарабатывать. То, в чем я профессионал, как-то само собой стало пользоваться спросом через соцсети» (информант 12: жен., 27 лет).
«Я, конечно, постоянно в сети. Мне так интересно. И с друзьями там переписываюсь, и дела делаю. И тема там у меня есть моя, про интерьеры, ремонты. Сначала просто снимал рилсы про свой ремонт. Потом, когда подписчиков уже много стало, ко мне стали обращаться прокомментировать какой-то товар, услугу. Сначала как бартер, потом и как заработок пошел» (информант 19: муж., 29 лет).
Написание текстов и отзывов, ведение блога, занятие фотографией и монтаж видео – все это для многих является и досугом, и трудом одновременно. Свои каналы, аккаунты и сообщества в социальных сетях все чаще рассматриваются как источник доходов, удаленной работой. Ж. Бодрийяр еще в начале XXI в. говорил о тенденции переноса социальных институтов в виртуальную сферу [Бодрийяр 2009]. Согласно его идеям о трансэкономике, расширение потребительских полей индивидов возможно уже не благодаря рекламе в ее классическом смысле, а за счет блогосферы, коммуникативной включенности в разные сетевые сообщества.
Монетизация зависит от масштаба и степени вовлеченности аудитории, от размещения в аккаунте рекламы. Это становится предпосылкой для сотрудничества с крупными компаниями и брендами. Многие популярные блогеры сегодня уже обладают производственными мощностями и командами, сравнимыми с крупными медийными корпорациями по объему финансов и по организационным параметрам. Но блогеров, и тем более инфлю-энсеров, конечно, абсолютное меньшинство по сравнению с теми, кто потребляет их контент.
Не так просто уловить различия: цифровая активность – это больше труд или досуг? Приведем высказывания респондентов:
– Не просто пишу пост в соцсети, а привлекаю внимание аудитории, тем самым наращивая свой символический капитал (подписчики, просмотры, лайки).
– Не просто общаюсь и завожу новых друзей в интернете, а занимаюсь нетворкингом.
– Не просто выражаю свое мнение и делюсь опытом, а занимаюсь сторитей-ллингом и формирую персональный бренд и миф.
Иногда только уточнение дополнительного контекста позволяет определить – к труду или досугу можно отнести ту или иную цифровую практику. В экономике нового типа создатели и пользователи цифровым контентом могут легко меняться местами, так как они пользуются одними и теми же цифровыми технологиями.
Например, конфликты родителей и детей по поводу «зависания» в интернете часто происходят на фоне недопонимания происходящего. Дети, рожденные на свет в начале XXI столетия, есть «digital natives» («цифровые аборигены» – по определению М. Пленски [Prensky 2001]). В отличие от родителей, они растут и развиваются вместе с цифровой средой, что позволяет быстрее уловить и более гибко использовать ее возможности. Из высказываний информанта: «Мама меня постоянно пилила, думала, что я ерундой в сети занимаюсь. Но, вообще-то, я уже с 13 лет там зарабатываю, и мне это интересно… возможностей много. Но ей этого не видно… я и сейчас СММ занимаюсь и обеспечиваю себя полностью, да и родителям помогаю» (информант 7: муж., 18 лет).
Однако, если говорить о соотношении затраченных ресурсов и извлечения прибыли, то здесь наблюдается значительная дифференциация и выстраиваются границы. Абсолютное большинство являются потребителями, а меньшинство (представители премиум-сегмент фриланса), выбиваясь в лидеры, извлекают суперприбыль.
Д. Дин отмечает, что поколением массы производится «кумир», и это ведет к потере возможности получения дохода и заработка для многих [Дин 2017]. И российская реальность это тоже подтверждает. Но в любом случае и те и другие являются участниками экономических отношений, экономическими агентами. Для цифровых платформ не так важно, чем человек занимается – бесконечно «серфит и скроллит», потребляет циф- ровой контент (оставляя цифровые следы) или создает его (привлекая и удерживая других) и извлекает из этого прибыть. Любая цифровая активность поощряется самой системой. Ее стимулирование и мотивирование сегодня активно достигается через тактики подталкивания.
Наджинг (подталкивание) – современное исследовательское направление в рамках поведенческой экономики, предложенное Р. Талером, К. Санстейном. В теории подталкивания исследуются возможности непрямого недирективного психологического влияния на процессы принятия экономических решений [Талер, Санстейн 2018]. При этом сохраняется видимость возможностей выбора. Причем все чаще конструируемые модели поведения тестируются в лабораторных условиях с учетом, например, нейрофизиологических показателей активности внимания. Думается, что сегодня практически в контексте любого экономического взаимодействия можно обнаружить признаки тактики подталкивания. Где-то они реализуются через фоновый визуальный и аудиальный контекст (расположение, цвет, звуковое сопровождение), где-то через конструирование информационной подачи, где-то через политику поощрений.
Сфера досуга сегодня активно конструируется экономическими агентами, которые выступают участниками процесса производства-потребления. По сути свобода выбора досуга, включенного в пространство экономических отношений, сводится к свободе потребительского выбора. В соотношении труд – досуг нет однозначности, на что больше сегодня тратится время и внимание людей. Но вот досуг как не экономическое поведение уже и представить сложно. Он либо непосредственно включен в экономическую активность, либо опосредованно. И тактики подталкивания – соблазнения, усиления символического значения, эмоционального вовлечения – направлены именно на это.
Внедрение элементов досуга в производственное пространство
Еще одной характерной тенденцией является геймификация производственных и бизнес-процессов. Согласно А. Паяль, гейми- фикация проявляет по-новому упакованный тренд для рабочих ландшафтов [Паяль 2015]. Простая чувствительность к благополучию сотрудников и качеству их досуга непосредственно сказывается на восстановлении сил и эффективности труда. Но это хорошо известно было и в индустриальную эпоху. Составляющие досуговой сферы оказались интересны с иной точки зрения.
Так, например, коммуникативно-игровой характер социальных медиа, задуманных изначально для общения на досуге, стал очень привлекательным для бизнес-целей. И если на момент появления и бурного распространения соцсетей для работодателей это было «зло», то сегодня их использование активно поощряется.
«Помню времена, когда у нас в офисе прям ставили ограничения для “зависания” в соцсетях, блокировали их как-то. Сейчас же нас, что называется, заставляют постоянно что-то туда постить про наши услуги, и фотки работ, и сьемки из нашего офиса выкладывать в соцсети» (информант 10: жен., 32 года).
Деловое общение, контроль исполнения, привлечение клиентов и/или интереса общественности, доступность или ее видимость, объединение членов команд – это далеко не полный перечень того функционала, который может быть реализован с помощью социальных сетей.
Подобно тому как в индустриальном мире производства оснащались комнатами отдыха, в цифровую – происходит освоение сетевых цифровых пространств, через игру и развлечения «подталкивающих» к творческой работе. Стратегии геймификации труда позволяют активизировать творческий потенциал, создать нужный контекст для креатива, так необходимый в условиях инновационной экономики.
Игровые элементы, часто цифровые, используются как управленческий инструмент – для повышения мотивации, уровня лояльности и вовлеченности в команду, оценки, обучения, развития и т. д. И внешне может видеться, что идея «превращения труда в игру» – это гуманизация трудовых отношений, порой скучных и рутинных. Однако реальность может оказаться иной. М. Смолен определяет геймификацию как конструируемую социальную систему, позволяющую осуществить определенный уровень контроля через новые формы контроля над социальным поведением [Smolen 2015].
Таким образом, контроль может осуществляться не только в управленческом контексте. Например, как в случае симуляционной игры, подсчета баллов или рейтингования по итогам какого-либо игрового соревнования. Ценным оказывается контроль над тем, куда направлено внимание человека, над его психологическим состоянием, азартом, творческой энергией, вектором интереса. И дальнейшая апроприация этого психического ресурса в интересах экономики, стимулирование через него определенного экономического поведения, подталкивания к нему. В качестве примера может выступать всплеск интереса населения к игре на бирже ценных бумаг, инвестирование туда финансов, времени и внимания.
Диффузия пространственно-временных границ труда и отдыха
Еще одной тенденцией выступают диффузии пространственно-временных границ труда и отдыха и синхронизация видов досуговой и трудовой активности. Пространственные и темпоральные маркеры труда и досуга существенно видоизменяются. «У меня на рабочем месте в своем офисе включены постоянно ноут и планшет, а в руках телефон. Новости в соцсетях одним глазом, поговорить с детьми, ну и, конечно, отчет составить. А недавно поставила тренажер для ног под стол, иногда пользуюсь. В общем, куча дел, ничего не успеваю. И устаю очень…» (информант 5: жен., 32 года).
«Часто работаю удаленно из дома, совещания провожу, можно сказать, лежа на диване. Или прям из машины, за рулем еду и с сотрудниками общаюсь. Да и сотрудники у нас тоже на связи всегда, но кто где: и из кафе могут работать, ну из офиса, конечно» (информант 11: муж., 31 год). Понятие традиционного рабочего места становится диффузно. Подходят и офисы, похожие на комнаты отдыха, и домашняя обстановка для деловых коммуникаций. В основ- ном это случается благодаря доступности сотрудников через мессенджеры.
Временное смешение труда и досуга аналогично процессу физическому: рабочее время – это все чаще «не от звонка до звонка», а 24/7, хотя и удаленно, и на расстоянии. Перманентная занятость по гибкому графику. «Не могу сказать, что на работе я очень загружен. Но хочется уйти с работы и дома о ней не думать. Но какой там. Вечером начинают поступать сообщения в рабочий чат. И как будто бы и не уходил. И отключить его нельзя, сразу проблем не оберешься. И терпеть невозможно, отключиться не получается. Самая печаль, что и в выходные то же самое» (информант 25: муж., 31 год).
В этой одержимости продуктивной досугово-трудовой занятостью больше всего страдает рекреационная составляющая отдыха. Восстановление физических, психоэмоциональных сил человека запаздывает по отношению к нагрузкам цифровой повседневности. Процессы пользования на цифровых платформах конкурируют со сном человека, живым непосредственным общением, простой (непоказной) физической активностью. То есть как раз тем досугом, который может осуществляться вне поля экономической активности, вне системы потребления.
И одно дело – декларируемый контент приверженности ЗОЖ и фото-видео-репрезентаций тех, чьи услуги / продукты формируются вокруг ЗОЖ в соцсетях. И другое – реальность, в которой чаще всего человек, чувствуя потерю сил и усталость, пытается расслабиться через пользование контента соцсетей. Не получая то, за чем он приходит, продолжает проводить на платформах еще больше времени в надежде улучшить состояние. Но удовлетворения не наступает, и формируется замкнутый круг.
В ходе исследования также были обнаружены специфические маркеры прокрастинации. Бесконечное смешение пространственно-временных режимов – «то работы, то досуга» – приводит к состоянию неопределенности «то ли работа, то ли досуг». Но могут привести человека и к застреванию: «и не работаю, и не отдыхаю».
Цифровые коммуникационные технологии оказались способными не только «пере- мешивать» досуг и работу, встраивая их друг в друга или подменяя, но сильно фрагментировать внимание человека. Одновременное использование двух или даже трех экранов, например чтение новостей, переписка с друзьями и работа с документами, вполне может сочетаться. Как это отражается на психическом состоянии человека, его здоровье, еще предстоит ответить исследователям. Однако уже сейчас статистика по многим показателям оставляет желать лучшего.
Постепенно утрачивается способность человека находиться в монопроцессе, будь то на работе, учебе или на досуге. Дефицит внимания, сложность его удержать маскируется под многозадачностью. А технической подоплекой данных обстоятельств выступают цифровые платформы. И дело не в том, что люди перестали обращаться к традиционным способам проведения свободного времени. Так, по данным опросов ВЦИОМ, «дом, дача, дети», всегда и так занимавшие много времени, сейчас – еще больше (60 и 40 % в 2017 и 2005 гг. соответственно). И количество желающих отдыхать на природе – тоже растет (34 и 17 % в 2017 и 2005 гг. соответственно) [А на досуге... web]. Но «быть на связи в любом месте и любое время», не прерывать режима мониторинга экрана, – теперь уже привычка современного человека. Избыточное желание контролировать (и одновременно с этим быть подконтрольным) гаджеты периодически приводит к протестам в виде «детокс от телефона и соцсетей».
Вынужденный досуг или вынужденная незанятость
Еще одной специфической тенденцией в соотношении труда – досуга является рост вынужденного свободного времени в связи с неполной непостоянной занятостью, ростом прекарности. Две противоположные по своей сути тенденции: цифровой досуг все больше приобретает черты цифровой занятости, меняется местами с работой. И наоборот, неполная ненадежная занятость вынужденно высвобождает свободное время.
Прекариат – формирующийся, набирающий рост социально-экономический феномен, наблюдаемый как в России, так и во всем мире. Ж.Т. Тощенко делает вывод, что занятость прекариата – чаще всего неформальная, временная, сезонная или частичная – с негарантированным, нестабильным, неустойчивым, преходящим характером [Тощенко 2022]. Как свидетельствуют данные исследования, в прекарном положении находятся от 40 до 50 % работников, занятых в разных отраслях экономики; в настоящий момент численность таких работников неизменно растет [Тощенко (ред.) 2022, 8]. Кардинальные изменения в технологическом укладе и экономике, гибкость производственных систем предопределяют и новые специализации, профессии, и иные формы участия людей в производственных процессах, и разные комбинации использования компетенций. И как следствие – модели занятости претерпевают существенные изменения. Цифровые платформы, проектные работы, частичная занятость и фриланс набирают обороты и, возможно, оказываются привлекательны. При этом речь все-таки идет о нестабильной занятости, произвольной оплате труда, негарантированной социальной защите и т. д. Так, по данным соцопросов, 56 % россиян симпатизируют тем, кто работает на фрилансе; этому вполне способствует идеология приставки «фри» – «свободный», на деле часто оказывающейся не идеологией, мифологией [Фриланс в России... web].
С точки зрения Г. Стэндинга, свободное время прекариата сложно отнести к «качественному времени» [Стэндинг 2014]. Отдых становится подчиненным работе – например, направленным на повышение своих компетенции. Другая крайность – прокрастинация с невротической интерактивностью, суетливостью. Как отмечают многие исследователи, прекариям свойственно определенное социально-психологическое чувство, тревожность и беспокойство, вызванные неясностью жизненных перспектив и неопределенность будущего [Тощенко (ред.) 2022]. В силу этого чувства тревоги ценность «вынужденного досуга» су-бьективно существенно снижается.
«Я блогер. Веду марафоны, клиенты есть, и доходы бывают немалые. Но выматываюсь, конечно, ужасно. Постоянно снимаю и выкладываю сторис, рилсы. Я там должна быть красивая, бьюти-сфера все-таки. И расслабиться не могу, все думаю, а вдруг покупать перестанут. Или с сетью что-нибудь, как было уже, или аккаунты взломают» (информант 4: жен., 35 лет).
«Когда сократили на работе, стала подрабатывать копирайтингом. Заказы – то есть, то нет. Стала раскручивать себя через соцсети. Пока тоже не очень результат ясен. А времени на них очень много уходит» (информант 24: жен., 36 лет).
Конечно, прекарно занятые – это очень неоднородная социальная группа. К ней может быть отнесен и студент, желающий подрабатывать, и именитый дизайнер, самостоятельно ведущий свои дорогие проекты; и мигрант, перебивающийся случайными заработками, и создающий целую цифровую толпу последователей коуч; и «цифровой» развозчик еды и игрок на бирже ценных бумаг. Прекарно занятые – категория, включающая многих, основная их черта – некая поглощенность идеей заработка. С одной стороны, день не нормирован, но возможность заработать может появиться в любой момент и под это необходимо подстраиваться. С другой стороны, чтобы необходимо многое делать, осваивать, заниматься поиском. Особенно это относится к тем, у кого занятость непосредственно связана с цифровыми платформами или зависит от них. Соотношение «work-life balance» – работа-жизнь в этом случае сводится к тому, что работа, или мысли про работу, или подготовка к работе занимают 24/7.
Во многом этому способствуют образовательные цифровые платформы, появившиеся во время пандемии в большом количестве. Сначала на дистант и онлайн перешли образовательные учреждения, одновременно с этим нишу рынка заполнили частные краткосрочные и среднесрочные онлайн-курсы, он-лайн-школы, обучающие экспертов, коучей, психологов и т. д. Логика здесь такая – покупая онлайн-курс или инфопродукт, осваивая его дистантно-самостоятельно, по аналогии планируют организовывать свою деятельность, свой «одиночный» проект.
С досугом прекарно занятых тоже сложно разобраться в силу размытости границ между свободным и рабочим временем, а также по причине внутренней психологической напряженности акторов, обусловленной неопределенностью. Приведем цитату из ин- тервью: «Когда ни работы, ни денег – так тяжело, кажется, что мешки разгружаешь» (информант 15: муж., 35 лет). Внешняя трудовая незанятость и отсутствие либо непостоянство дохода провоцируют внутреннюю психологическую напряженность.
Выводы
Таким образом, были проанализированы актуальные тенденции, регистрируемые в области пересечения практик труда и досуга, реализация которых в той или иной степени происходит в контексте цифровых платформ. Данные тенденции зачастую носят разнонаправленный и противоречивый характер.
Для высокотехнологичной экономики становится неактуальна массовая занятость; ноу-хау в технологиях и промышленности достигаются в результате труда инновационных творческих коллективов, и их разработки только копируются большими партиями в промышленных масштабах, в основном роботизированным способом. Изменения в трудовой деятельности, в структуре занятости населения отражаются на всей жизни человека.
Растущие тренды гиг-экономики специфическим образом влияют и на баланс-соотношение труда и досуга, на их границы. Это, безусловно, не означает, что, например, работа представителей таких профессий, как врач, слесарь или пекарь, сливается с их досугом. Но все чаще наблюдается перетекание цифрового досуга в цифровую занятость , все незаметнее происходит синхронизация видов цифровой досуговой и трудовой активности , все привычнее становится присутствие в двух-трех фокусировках (например, экраны монитора, планшета и смартфона).
Когда платформы, проекты в них, фриланс становятся альтернативой традиционной занятости – когда работа становится нестабильной, – по сути, отдых оказывается таким же. В ожиданиях работы сложно организовать отдых: вынужденная незанятость порождает вынужденный досуг , неценный и порой бессмысленный. В состоянии прокрастинации труда и досуга человек, вероятнее всего, становится цифровым пользователем.
Когда люди стали проводить время онлайн, общаясь и развлекаясь, все большее ко- личество социальных институтов разработали стратегии расширения присутствия в сети. Собственно, термин «цифровизация» в России появился в связи с процессами перевода социальных структур и взаимодействий на сетевые информационно-коммуникационные платформы, контролируемые государством и медиакорпорациями. Дальнейшим ускорителем этого процесса стала пандемия, режим локдауна.
Динамика времени онлайн на сегодняшний день продолжает расти. Работа, общение, учеба, новости, игры и покупки могут состояться в разных конфигурациях, чередуясь, совмещаясь, подменяя и конкурируя друг с другом в двух режимах одновременно – реального присутствия и онлайн. Участники этих процессов могут видеть разные смыслы и возможности внедрения элементов досуга в производственное пространство . Например: работодатели – через игру поощрять творческий потенциал сотрудников, продавцы – стимулировать коммуникации для повышения интереса к товару / услуге, пользователи – создавая интересный контент, зарабатывать себе популярность и монетизировать ее, медиаплатформы – собирать и анализировать данные по цифровым следам, монетизировать и т. д. И разграничить – к труду или досугу можно отнести ту или иную практику в этой сложной самоорганизующейся системе – сложно.
Проницаемость границы соотношения труд – досуг подкрепляется их принадлежностью к пространству экономических отношений. И если для труда это само собой разумеющееся, то вот досуг своей самоценностью и свободой (на что часто указывали философы и мыслители древности и современности) мог бы быть реализован и по-другому. Здесь можно говорить о противоречии самой природе досуга. Однако сегодня все чаще свобода выбора досуга сводится к свободе потребительского (пользовательского) выбора, часто нативно конструируемой самой системой цифровой экономики.
Список литературы Соотношение труда и досуга в условиях цифровых трансформаций
- А на досуге... web – А на досуге мы танцуем бугивуги? [ВЦИОМ Новости] // https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/a-nadosuge-my-tanczuem-bugi-vugi
- Бодрийяр 2009 – Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М.: Добросвет, 2009.
- Дин 2017 – Дин Д. Коммуникативный капитализм: от несогласия к разделению // Коммуникации. Медиа. Дизайн. 2017. Т. 2, № 2. С. 152–165.
- Паяль 2015 – Паяль А. Фабрика досуга: производство в цифровой век // ЛОГОС. 2015. Т. 25, № 3 (105). С. 88–115.
- Стэндинг 2014 – Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014.
- Талер, Санстейн 2018 – Талер Р., Санстейн К. Nudge. Архитектура выбора: как улучшить наши решения о здоровье, благосостоянии и счастье. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018.
- Тощенко (ред.) 2022 – Тощенко Ж.Т. (ред.). От прекарной занятости к прекаризации жизни: коллектив. моногр. М.: Весь Мир, 2022.
- Тощенко 2022 – Тощенко Ж.Т. Новое социально-экономическое явление: прекариат // Ноономика и ноообщество. Альманах трудов ИНИР им. С.Ю. Витте. 2022. Т. 1, № 1. С. 146–161.
- Фриланс в России... web – Фриланс в России – больше, чем фриланс? [ВЦИОМ Новости] // https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskiiobzor/frilans-v-rossii-bolshe-chem-frilans
- Цифровые платформы... web – Цифровые платформы // https://hsbi.hse.ru/articles/tsifrovyeplatformy/
- Prensky 2001 – Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants. Part 1 // On the Horizon. 2001. Vol. 9, № 5. P. 1–6.
- Smolen 2015 – Smolen M. Gamification as Creation of a Social System // Kopec J., Pacewicz K. (eds). Gamification. Critical Approaches. Warsaw: University of Warsaw, 2015. P. 99–112.