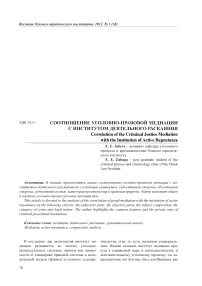Соотношение уголовно-правовой медиации с институтом деятельного раскаяния
Автор: Забуга Евгений Евгеньевич
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Противодействие преступности: вопросы теории и практики
Статья в выпуске: 1 (18), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье производится анализ соотношения уголовно-правовой медиации с институтом деятельного раскаяния по следующим критериям: субъективная сторона, объективная сторона, субъектный состав, категория преступления и правовая природа. Автор выделяет общее и частное уголовно-процессуальных институтов.
Медиация, деятельное раскаяние, сравнительный анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/14317454
IDR: 14317454 | УДК: 343.1
Текст научной статьи Соотношение уголовно-правовой медиации с институтом деятельного раскаяния
В последние два десятилетия институт медиации развивается во многих уголовнопроцессуальных системах, причем вне зависимости от специфики правовой системы и исповедуемой модели (формы) уголовного судопро- изводства, став, по сути, явлением универсальным. Иными словами, институт медиации присущ в одинаковой мере и англосаксонскому, и континентальному уголовному процессу: он характерен как для Англии, так и для Франции, как для США, так и для Германии, как для Новой Зеландии, так и для Бельгии1.
Методологически верным представляется вначале дать определение уголовно-правовой медиации, а также назвать принципы, на которых она базируется. Особое значение при этом имеет признание медиации на наднациональном уровне в Рекомендации Комитета министров Совета Европы № R(99)19, посвященной медиации в уголовных делах2. Именно анализ норм указанного документа позволяет дать определение и выделить принципы медиации.
Медиация – это способ разрешения уголовноправового конфликта с помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора), который может быть использован в случае добровольного согласия на это пострадавшего (потерпевшего) и правонарушителя (подозреваемого, обвиняемого) для разрешения проблем, возникших в результате совершения преступления.
Несмотря на то что сформированная дефиниция является наиболее общей, она содержит все существенные признаки медиации в рамках уголовной юстиции. Принципами медиации, согласно указанной выше рекомендации, являются добровольность, конфиденциальность, общедоступность, применимость на любой стадии уголовного судопроизводства (принцип «свободной стадии»).
В настоящее время в отечественной юридической науке исследованиям уголовно-правовой медиации посвящены различные по своей глубине труды – от научных статей до моногра-фий3. Однако, анализируя их положения, нельзя прийти к выводу об одинаковом понимании медиации разными авторами в силу отсутствия единообразного толкования ее содержания и составляющих. Так, например, впервые исследовавшая уголовно-правовую медиацию на монографическом уровне Н. С. Шатихина прямо отождествляет медиацию с институтом деятельного раскаяния, называя данный институт «формой медиации», при этом отмечая, что такой подход
«позволит расширить научный инструментарий и дать ответы на наиболее проблемные вопросы исходя из общетеоретических положений, а не соображений целесообразности»4. Однако представляется, что подобный способ толкования уголовно-правовой медиации не учитывает ее специфики как по содержанию, так и по внешнему выражению. Поэтому, для того чтобы отграничить медиацию от института деятельного раскаяния, необходимо провести их соотношение с выделением общих и частных черт.
В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) и Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) институту деятельного раскаяния отдельно посвящены лишь две статьи (ст. 75 УК РФ и ст. 28 УПК РФ), а одним из главных недостатков является отсутствие четкого алгоритма действий участников уголовного судопроизводства при наличии предпосылок для применения данных норм, на что неоднократно обращалось внимание в юридической литературе5.
Для выявления общих и частных признаков уголовно-правовой медиации и деятельного раскаяния представляется возможным воспользоваться уголовно-правовыми понятиями «субъективная сторона» (для понимания психологического отношения лица к медиации и деятельному раскаянию) и «объективная сторона» (действия лица, необходимые для прекращения уголовного преследования). Кроме того, в качестве критериев для соотношения взяты субъектный состав исследуемых институтов, категория преступления, от которой зависит их применение, а также правовая природа (сущность).
Представляется методологически возможным начать исследование с соотношения рассматриваемых правовых категорий по субъективной стороне.
Деятельное раскаяние. При исследовании субъективной стороны деятельного раскаяния, прежде всего, возникает вопрос об искренности субъекта раскаяния и его психологическом от- ношении к совершенному им деянию, осознанию вины, а также собственном порицании своего противоправного поведения. В этой связи необходимо согласиться с мнением И. Л. Петрухина, справедливо отметившего, что «можно соблюсти все условия, указанные в ст. 75 УК РФ, и не раскаяться. Слово «раскаяние» присутствует в названии статьи, но не в ее содержании»6. Под раскаянием подразумевается «чувство сожаления по поводу своего поступка, проступка»7.
Из научной полемики о соответствии наименования ст. 75 УК РФ ее содержанию8 в совокупности с положениями уголовного и уголовнопроцессуального законов следует, что название статей (ст. 75 УК РФ, ст. 28 УПК РФ), включающее в себя словосочетание «деятельное раскаяние», действительно расходится с положениями диспозиций этих же статей. На этом основании можно заключить, что о деятельном раскаянии свидетельствует лишь необходимая совокупность действий лица, а не действительное чувство сожаления по поводу своего проступка.
Уголовно-правовая медиация. Исходя из правового регулирования медиации по уголовным делам в Рекомендации Комитета министров Совета Европы № R(99)19, а также анализа обширной практики применения медиации органами уголовной юстиции европейских стран9, следует, что истинное отношение лица к примирению посредством медиации выяснить практически невозможно, поскольку этот вопрос лежит в области человеческой психологии, а не юриспруденции, которая практически не обладает инструментарием для точного определения отношения лица к определенным обстоятельствам. Поэтому представляется, что по субъективной стороне уголовно-правовая медиация и деятельное раскаяние полностью схожи и фактически не требуют истинного (внутри себя) раскаяния от лица для прекращения уголовного преследования и освобождения его от уголовной ответственности.
Продолжая исследование, необходимо провести соотношение рассматриваемых категорий по объективной стороне.
Деятельное раскаяние. Помимо споров о субъективной стороне деятельного раскаяния, в науке уголовного права и уголовного процесса ведется дискуссия и по поводу действий, образующих деятельное раскаяние, обозначенных в ст. 75 УК РФ. Так, часть первая данной статьи называет в качестве таких признаков явку с повинной, способствование раскрытию и расследованию преступления, возмещение причиненного ущерба.
Одни ученые придерживаются мнения, что названные в части первой ст. 75 УК РФ признаки деятельного раскаяния должны рассматриваться в совокупности и единстве10, другие же – что наличие всей совокупности признаков не является обязательным, а следовательно, в ст. 75 УК РФ содержатся лишь «альтернативные формы поведения»11.
Представляется, что позиция сторонников второй точки зрения необоснованна, потому как, например, одна только явка лица с повинной не может рассматриваться в качестве достаточного основания для применения деятельного раскаяния, а является лишь смягчающим вину обстоятельством согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.
Из этого следует, что для применения института деятельного раскаяния лицу необходимо выполнить четко предписанную нормой права совокупность действий, которая оценивается не потерпевшим, а уполномоченным должностным лицом органа предварительного расследования или судом.
Уголовно-правовая медиация. В отличие от института деятельного раскаяния, исходя из анализа правоприменительной практики европейских стран12, медиация не предполагает под собой наличия определенной (строго поименованной) совокупности действий лица, которые непременно должны присутствовать в каждом случае. Данный тезис под- тверждает и Рекомендация Комитета министров Совета Европы № R(99)19, посвященная медиации в уголовных делах, отражающая ее основные положения и принципы, которая не ставит идею примирения в зависимость от четко определенных условий (действий), так как в процессе примирения стороны сами вправе решить, что для них приемлемо для разрешения уголовно-правового конфликта.
Как свидетельствует зарубежная практика применения медиации (на примере английской меди-ации)13, для потерпевшего, наряду с компенсацией причиненного ущерба, также важны и социальнополезные действия его «обидчика». При этом совершение социально-полезных действий выходит на первый план, поскольку не всегда наличествует материальный ущерб от преступления.
На основании изложенного следует, что по объективной стороне уголовно-правовая медиация и деятельное раскаяние имеют существенные различия, поскольку уголовно-правовая медиация не предполагает совершения исчерпывающе определенных действий, которые необходимо совершить лицу для примирения с потерпевшим и прекращения уголовного преследования, так как в каждом конкретном случае вопрос о совершении действий определяется исходя из интересов потерпевшего. Напротив, действия, необходимые для признания деятельного раскаяния, четко определены нормами УК РФ и УПК РФ.
Продолжая проводить параллель между институтами, перейдем к анализу значения категории преступления при их применении.
Деятельное раскаяние. Согласно ст. 75 УК РФ и ст. 28 УПК РФ применение института деятельного раскаяния возможно только за преступления небольшой и средней тяжести, а прекращение уголовного преследования лица по уголовному делу о преступлении иной категории при деятельном раскаянии лица в совершенном преступлении осуществляется только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ.
Уголовно-правовая медиация. В зарубежных странах применение медиации, как правило, не ограничивается категорией преступления. Так, например, ст. 41-1 УПК Франции, в которой законодательно закрепляется уголовно-правовая медиация, подлежит применению по любому уголовному делу без каких-либо ограничений14.
Исследуя субъектный состав медиации и деятельного раскаяния, необходимо отметить следующее.
Деятельное раскаяние. Статья 28 УПК РФ в качестве субъектов, участвующих при решении вопроса о деятельном раскаянии лица, называет подозреваемого (обвиняемого), суд, следователя, дознавателя, руководителя следственного органа и прокурора. При этом последние два субъекта прямо не участвуют в принятии решения об освобождении от уголовного преследования, однако осуществляют процессуально важную функцию санкционирования принятия такого решения следователем и дознавателем путем дачи согласия на прекращение уголовного преследования. Однако в рассматриваемой норме уголовно-процессуального закона не содержится упоминания о потерпевшем, равно как не говорится о потерпевшем и в ст. 75 УК РФ, несмотря на то что в последней присутствует положение о возмещении причиненного ущерба или заглаживании вреда иным образом.
Уголовно-правовая медиация. Предполагает участие в качестве обязательных субъектов подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего, а также посредника (в случае применения так называемой «общественной медиации»), который своими действиями способствует достижению компромисса в разрешении уголовно-правового конфликта, и должностного лица компетентного государственного органа, будь то орган предварительного расследования, прокуратура или суд. В то же время уполномоченное должностное лицо может выступать медиатором в моделях так называемой судебной медиации без привлечения третьих лиц в качестве посредника.
Таким образом, медиация может иметь как трехсторонний, так и четырехсторонний субъектный состав в зависимости от ее вида (например, судебная медиация и общественная имеют разный субъектный состав, примеры приведены ниже).
Однако существует и категоричная точка зрения, что медиация являет собой трехстороннее правоотношение. Так, Е. В. Марковичева без каких-либо оговорок отмечает, что «медиационные правоотношения имеют свою специфику: они носят трехсторонний характер и предполагают наличие специальных субъектов, которые выступят в качестве посредника между подозреваемым, обвиняемым, подсудимым и потерпевшим»15. Также существует мнение, что медиация возможна лишь при судебном производстве. В этой связи Д. С. Маткина полагает, что «медиация в уголовном процессе – это система медиативных приемов, применяемых судьей в ходе рассмотрения уголовных дел небольшой и средней тяжести с целью прекращения уголовно-правового конфликта по воле сторон»16. Из определения Д. С. Маткиной следует, что из состава субъектов медиации «выводится» посредник, имеющий сущностное значение для процедуры примирения, а его роль отводится суду, а не, например, прокурору, как это происходит во французской судебной уголовноправовой медиации. Подобные мнения представляются необоснованными и не учитывающими рекомендации Комитета министров Совета Европы, которые в числе участников медиации называют «местное сообщество», а также сложившуюся медиационную практику зарубежных стран, в которой наряду с государственными органами участвуют и общественные объединения либо их представители (Великобритания и др.).
Мнение о наличии как трехстороннего, так и четырехстороннего характера медиационных правоотношений в настоящей работе сформировано на основе рассмотрения зарубежного опыта применения и развития уголовно-правовой ме-диации17. Так, в странах англо-саксонской правовой семьи, которые стали родоначальницами уголовно-правовой медиации, существуют различные типы медиационных процедур, дифференцированные в зависимости от стадии уголовного процесса, на котором применяется медиация. Так, например, рассматривая английскую медиационную практику, можно выделить полицейскую медиацию, которая представляет собой именно альтернативу традиционному разрешению уголовно-правовых конфликтов, к тому же она зарождалась и начинала применяться как мера, направленная исключительно на преступления, совершенные несовершеннолетними. Суть данного типа медиации состоит в том, что полиция перед принятием решения о воз- буждении уголовного преследования может передать материалы дела в службу медиации, далее в рамках примирительной процедуры медиатор (посредник) поочередно встречается с потерпевшим и лицом, подлежащим уголовному преследованию, пытаясь найти путь к компромиссу и возмещению ущерба18. В случае успеха медиации и заключения соответствующего соглашения полиция отказывается от уголовного преследования, ограничиваясь предупреждением.
Классическая французская уголовно-правовая медиация заключается в том, что лицо, совершившее запрещенное уголовным законом деяние, должно возместить причиненный вред потерпевшему в соответствии с заключаемым сторонами мировым соглашением, а прокурор в этом случае, используя предоставленные ему дискреционные полномочия, отказывается от возбуждения публичного иска, или, иными словами, государство в лице прокурора отказывается от принадлежащего ему права уголовного преследования.
В настоящее время во Франции медиация подразделяется на судебную и общественную, осуществляемую под судебным контролем19. В последнем случае прокурор не занимается примирением сторон самостоятельно. Он лишь принимает соответствующее решение, передавая полномочия третейского судьи какому-либо специально назначенному для этой цели юридическому или физическому лицу, компетентному в области реадаптации преступников или помощи потерпевшим, что имеет много схожего с английской полицейской медиацией.
При этом необходимо заметить, что в зарубежных странах (в случаях использования общественной медиации) успешность произведенной примирительной процедуры оценивается именно должностным лицом компетентного государственного органа, а не самой посреднической организацией (третьим лицом), поскольку уголовный процесс, несмотря на включение в него диспозитивных начал, остается процессом публичным, что создает принципиальную необходимость участия в нем публичного субъекта.
Говоря о правовой природе исследуемых институтов, на основании изложенного можно сделать вывод о том, что медиацию и деятельное раскаяние принципиально нельзя отождествлять в силу различий в их сущности и процедурном построении. Так, уголовно-правовая медиация является целиком альтернативой уголовному преследованию, то есть процедурой (процессом), заменяющей традиционные механизмы уголовного судопроизводства, а деятельное раскаяние – это лишь основание для решения на досудебном или в судебном производстве вопроса о прекращении уголовного преследования, при этом (исходя из положений ст. 28 УПК РФ) полностью зависящее от усмотрения государственного органа, в чьем производстве находится уголовное дело, а не от потерпевшего.
Институт деятельного раскаяния строго формализован определенными условиями и действиями, которые необходимо совершить лицу, закрепленными в правовых нормах УК РФ и УПК РФ, в то время как медиация (исходя из практики зарубежных стран) вариативна и не содержит строго определенного перечня действий, которые необходимо совершить для прекращения уголовного преследования.
Необходимо учитывать, что подозреваемый (обвиняемый) может деятельно раскаяться и в том случае, когда формально отсутствует потерпевший (как физическое лицо) по уголовному делу, однако положения института деятельного раскаяния вне зависимости от этого обстоятельства могут быть применены к такому лицу. Медиация же по своей сути невозможна в отсутствие потерпевшего (его представителя).
Также в силу того что освобождение от уголовной ответственности является, согласно УК РФ и УПК РФ, лишь дискреционным полномочием государственного органа, в чьем производстве находится уголовное дело, об активной роли органов, ведущих производство по уголовному делу, говорить не приходится, что отрицает медиационную сущность деятельного раскаяния.
Таким образом, соотношение уголовноправовой медиации и института деятельного раскаяния позволяет подробно разработать научную концепцию уголовно-правовой медиации для ее будущей имплементации в отечественное уголовно-процессуальное законодательство.
Соотношение уголовно-правовой медиации и института деятельного раскаяния
|
№ |
Критерий соотношения |
Уголовно-правовая медиация |
Институт деятельного раскаяния (ст. 75 УК РФ, ст. 28 УПК РФ) |
|
1. |
По субъективной стороне |
Истинного (внутри себя) раскаяния для освобождения от уголовного преследования от лица не требуется |
|
|
2. |
По объективной стороне |
Как правило, возможна вариативность в зависимости от потребностей потерпевшего |
Действия четко определены в нормах права (ст. 75 УК РФ, ст. 28 УПК РФ) |
|
3. |
По субъектному составу |
Может быть как трех-, так и четырехсторонней в зависимости от ее вида |
Субъекты четко определены нормами права (ст. 75 УК РФ, ст. 28 УПК РФ) |
|
4. |
По категории преступления |
Как правило, не ограничивается категорией преступления (характерно для стран континентального права) |
Преступления небольшой и средней тяжести. В качестве исключения иные деяния в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ |
|
5. |
По правовой природе |
Альтернатива уголовному преследованию, зависящая от сторон уголовно-правового конфликта (подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего) |
Основание для освобождения от уголовного преследования, зависящее от воли правоприменителя, а не сторон уголовно-правового конфликта (подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего) |
Список литературы Соотношение уголовно-правовой медиации с институтом деятельного раскаяния
- Головко Л. В. Институт уголовно-правовой медиации и его перспективы в Российской Федерации. Закон. 2009. № 4. С. 128-129.
- Шатихина Н. С. Институт медиации в российском уголовном праве: дис. канд. юрид. наук. СПб., 2004. 228 с.
- Карягина О. В. Перспективы медиации в российском уголовном процессе: зарубежный опыт примирительных процедур//Рос. юстиция. 2011. № 6. С. 66-68 и др.
- Шатихина Н. С. Указ. соч. С. 72.
- Кушнарев В. А. Проблемы толкования норм уголовного права о деятельном раскаянии//Рос. следователь. № 1. С. 12.
- Магомедов А. Ю. Прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием в стадии предварительного расследования: автореф. дис. канд. юрид. наук. Омск, 1999. С. 9.
- Петрухин И. Гуманность или трезвый расчет?//Рос. юстиция. 1999. № 9. С. 25.
- Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 3-е изд., стереотип. М.: АЗ Ъ, 1996. С. 647.
- Соловьев Р. О правовой природе деятельного раскаяния//Уголовное право. 2001. № 1. С. 40.
- Лобанова Л. В. К вопросу о соответствии наименования и содержания ст. 75 УК РФ//Вопросы юрид. техники в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве. Ярославль, 1997. С. 32.
- Волков Б. С. Нравственные начала в назначении наказания//Правоведение. 2000. № 1. С. 125.
- Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. С. 66-79, 92-121.
- Савкин А. В. Деятельное раскаяние -свобода от ответственности//Рос. юстиция. 1997. № 12. С. 35.
- Келина С. Г. Освобождение от уголовной ответственности//Курс рос. уголовного права. Общая часть/под ред. В. Н Кудрявцева, А. В. Наумова. М., 2001. С. 647.
- Головко Л. В. Указ. соч. С. 66-79, 92-121.
- Марковичева Е. В. Роль института медиации в ускорении уголовного судопроизводства//Рос. судья. 2009. № 9. С. 26-27.
- Маткина Д. В. Конвенциональная форма судебного разбирательства: история, современность и перспективы. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
- Головко Л. В. Указ. соч. С. 66-79, 92-121.
- Lazerges C. Essai de classification des procedures de mediation//Archives de politique criminelle. Paris-Pedone, 1992. № 14. P. 17.