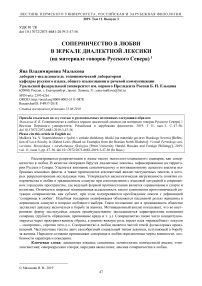Соперничество в любви в зеркале диалектной лексики (на материале говоров русского севера)
Автор: Малькова Яна Владимировна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 3 т.11, 2019 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается репрезентация в языке такого психолого-социального сценария, как соперничество в любви. В качестве материала берутся диалектные лексемы, зафиксированные на территории Русского Севера. Уделяется внимание семантическому и мотивационному аспектам анализа выбранных языковых фактов, а также производится контекстный анализ частушечных текстов, в которых репрезентирована исследуемая тема. Утверждается аксиологическая нагруженность понятия соперничества в любви в традиционном социуме при сопоставлении с языковой ситуацией в современном городским пространстве, где ведущей формой противостояния является соревнование в спорте и политике. Отмечается широкая номинативная выделенность такого компонента прототипической ситуации соперничества, как субъект, при этом подчеркивается преобладание лексем с дефиницией ‘соперница в любви’. Подобная гендерная модификация объясняется пассивной ролью женщины в деревенском социуме в вопросе любовного выбора. Такое положение дел в традиционном обществе заставляет девушку включаться в борьбу за жениха. Мотивационный анализ показывает, что во внутреннюю форму исследуемых лексем преимущественно закладываются характеристики поведения соперниц (грубость обращения, причинение вреда и т. д.). Соперничество также часто концептуализируется через пространственные образы, а именно важную роль играет идея «враждебных» локусов - «напротив», «против чего-л.». Соперничество в любви является частой темой фольклорных произведений. Частушечные тексты дают своеобразный социальный типаж девушки, вступающей в борьбу за жениха. Народное сознание приписывает сопернице в любви определенные черты внешности, особенности характера и поведения.
Диалектная лексика, семантика, мотивология, контекстный анализ, этнолингвистика, севернорусские говоры, народная аксиология, лексика соперничества в любви
Короткий адрес: https://sciup.org/147226975
IDR: 147226975 | УДК: 81’28 | DOI: 10.17072/2073-6681-2019-3-47-56
Текст научной статьи Соперничество в любви в зеркале диалектной лексики (на материале говоров русского севера)
Данная статья посвящена рассмотрению ключевых особенностей языковой репрезентации такого феномена социальной жизни человека, как соперничество в любви, на примере языковых фактов, зафиксированных на территории Русского Севера.
Соперничество представляет собой интерес как явление, совмещающее в себе яркую акцио-нальную составляющую (стремление превзойти кого-л. в чем-л.) и значительный эмоциональный компонент. Таким образом, соперничество ориентировано как на внутренний мир человека, так и на сосуществование людей в обществе.
В традиционном социуме наибольшей символической нагрузкой обладает соперничество в любви, о чем свидетельствует активное номинативное воплощение идеограмм ‘соперник в любви’, ‘соперница в любви’, ср. волог. перебо́йник ‘соперник в любви; молодой человек, который стремится, возбудив симпатию, любовь к себе, заставить разлюбить другого’ [СВГ 7: 28], волог. грубия́ночка ‘соперница’: Грубия́ночка она́ была́ моя́, одного́ мужика́ полюби́ли [КСГРС] и др.
Таким образом, среди лексических единиц, касающихся соперничества, именно в диалектах отмечается соперничество в любви, в то время как другие виды противостояния практически не упоминаются (имеем в виду прямое лексическое воплощение понятий). Лексика, не принадлежащая сфере любовных отношений, составляет всего лишь 9 % относительно числа всех севернорусских слов со значением соперничества: волог. упева́ть ‘стараться одержать верх над соперником в пении частушек, перепевать’: Сударушку плясали парень с девкой, Он тебя упевает, а ты его [СВГ 11: 130]2, костром. не быть ‘не соперничать’: Мужику против ахадемика не быть [СГКЗ: 232].
Если говорить об устройстве семантического пространства в данном фрагменте лексической системы, то нужно отметить, что его центром, безусловно, являются обозначения субъектов ситуации соперничества: новг., волог. своя́ня ‘соперница в любви’ [СРНГ 36: 329], волог. зло-де́йка ‘соперница’ [СВГ 2: 172], волог. пере-бе́йник ‘соперник в любви; молодой человек, который стремится, возбудив симпатию, любовь к себе, заставить разлюбить другого’ [СВГ 7: 28]. Обозначения соперничающих девушек и парней составляют 81 % числа лексем, входящих в исследуемое поле.
Наименования действий, связанных со стремлением превзойти соперника в любви, составляют периферию поля: арх. перебо́й, волог., пск., смол., арх., р. Урал, твер., новг., влад., яросл. на, в пере-бо́й идти ‘соперничество в любовных отношениях, сватовстве’ [СРНГ 26: 28–29], костром. пере- бива́ть ‘отбивать от кого-либо, привлекать на свою сторону’: Как бы ты, подруженька, / Была бы мне не милая, / Я давно бы у тебя / Перебила милого [СРНГ 26: 25–26], ленингр., арх. отсу-ши́ть ‘колдовством заставить разлюбить кого-н., разлучить с кем-н.’ [СРГК 4: 334].
Стоит обратить внимание на асимметрию в распределении лексики по секторам поля. Значительное преобладание наименований субъектов соперничества обусловлено, во-первых, экспрессивностью самого понятия, которое стоит за языковыми фактами. С другой стороны, устойчивость данной идеограммы связана с ее активным бытованием в фольклоре, в частушечных текстах, о которых подробнее будет сказано ниже.
Внутри выделенных семантических областей существуют модификации по гендерным характеристикам. Лексемы с дефиницией ‘соперник’ составляют 10 % материала, а ‘соперница’ – 90 % (относительно числа всех лексем с дефинициями ‘соперник’, ‘соперница’).
Такое соотношение, по-видимому, обусловлено представлениями о любовных отношениях в традиционном обществе. В данном типе социума выбор обычно диктуется мужчиной и именно мужчина обладает правом посвататься. Этот фактор заставляет женщину включаться в борьбу, поскольку ее права в любовном выборе значительно ограничены. Кроме того, патриархальное общество навязывает высокий, главенствующий статус мужчины, что обусловливает борьбу женщин за мужчину, а не наоборот. Ср. контексты: волог. У де́вки, коль па́рень хоро́ший, су-поста́ток мно́го [СВГ 10: 158], костр. Жаниха-то у меня перебе́йка увела [СГКЗ: 272].
Отметим и то, что неприязнь в народной культуре жестко связана с определенными сценариями. Соперница является героиней фольклорных произведений. Существует особый фольклорный жанр наве́тка – частушка, исполняемая на молодежных гуляниях и содержащая в себе сообщение о любовных взаимоотношениях (обычно конфликтных) исполняющего с другим участником беседы. Подробно этот жанр был описан Е. Л. Березович и Т. В. Леонтьевой [Бере-зович, Леонтьева 2016, 2017]. Отмечается, что исполнительницами наветок чаще всего являются незамужние девушки-соперницы в любви, «которые ведут диалог, сплошь состоящий из колкостей, острот, угроз» [Березович, Леонтьева 2016: 49]. Фольклорное, текстовое закрепление данной социальной роли также способствует лексикализации понятия.
Однако значима и символическая роль наве-ток. Исполнение таких частушек является своеобразным словесным поединком, протекающим между соперницами в любви. Зачастую наветки содержат вызов, оскорбления и угрозы [Березо-вич, Леонтьева 2016: 49–50].
Говоря о более «пассивном» положении женщины и особых способах борьбы в сфере любовных взаимоотношений, можно в качестве параллели привести другие жанры традиционной культуры, связанные с выбором в любви и определением семейного будущего. Это, во-первых, гадания, причем Л. Н. Виноградова отмечает, что «наиболее массовой и подробно разработанной может быть признана группа матримониальных гаданий, совершаемых молодежью (преимущественно девушками)» [СД 1: 483]. Широко применялись различные виды любовной магии: для того чтобы привлечь жениха, чтобы муж не изменял, чтобы разлучить мужчину с любовницей и т. д. [СД 3: 154]. Существовало множество ритуальных действий, направленных на предотвращение безбрачия и избавление от него (см. подробнее: [Гура 2011: 36–38]).
Безусловно, значимым фактором для формирования соперничества является и негативное отношение к безбрачию в традиционной культуре вообще (см. об этом, например: [Гура 2011: 33–35; Зверева 2013: 29–31 и др.]).
О соперничестве реже говорится в том случае, когда мужчина с женщиной уже состоят в браке, ср. волог. стате́ечка ‘разлучница’: Ста-те́ечка му́жа у неё увела́. Так тепе́рь одна́ и живёт [СВГ 10: 123]. Однако измена мужа может заставить включиться в борьбу жену. В традиционной культуре «прелюбодеяние мужа не ставит под угрозу институт брака» и в то же время «к разведенным и брошенным женам относились с презрением» [СД 4: 614]. Именно поэтому женщина стремится вернуть мужа в семью: смол. по-сё́стра ‘любовница; соперница’: Усе к пасёстри ходить яе мужык. Ну тока устречу яе, я ей пъкажу, как мужукоу адбивать [ССГ 8: 180–181].
Обратимся к рассмотрению мотивационного своеобразия лексики со значением соперничества.
При концептуализации любовного соперничества широко используются социальные мотивы , потому как оно непосредственным образом соотносится с существованием людей в обществе.
В языке могут закрепляться представления о поведении людей, вступающих в борьбу, своеобразная оценка их действий. Так, соперникам приписывается грубое, дерзкое, неприемлемое обращение, ср. волог. грубия́нка, грубия́ночка ‘соперница’: Грубия́ночка она́ была́ моя́, одного́ мужика́ полюби́ли [КСГРС]. Действия соперников понимаются как причинение вреда, зла: волог., яросл. лиходе́йка ‘соперница’ [СРНГ 17: 78], волог. лиходе́ичка ‘то же’: Супостатка та, если отбивает кавалера, модёная, лиходеичка – та же супостаточка [СГРС 7: 108]; волог. зло-де́йка ‘то же’: Дро́ля венча́лся, взял злоде́йку мою [СВГ 2: 172].
Значительное число обозначений субъектов соперничества в любви образовано от глагола бить (и родственных слов), что указывает на представление о перехвате , как, например, в во-лог. перебе́йка ‘соперница; девушка, отбивающая парней’ [КСГРС], костр. перебо́йка ‘девушка, отбившая у кого-л. парня’, перебо́ечка ‘соперница в любви’ [ЛКТЭ], волог. перебе́юшка ‘соперница в любви; девушка, которая стремится, возбудив симпатию, любовь к себе, заставить разлюбить другую’ [СВГ 7: 28], костр. перебива́ть ‘отбивать, уводить невесту или жениха’: Переби-ва́ет жениха – соперница, говорит, перебьё́т [ЛКТЭ]. Идею физического противостояния поддерживает и арх. отойма́ть ‘отбить кого-либо’: Девки сердятся на нас, / Вы сердитесь, не сердитесь, / Отоймем ребят у вас [СРНГ 24: 253].
Соперница в любви не отличается постоянством в поведении, для нее характерно выбирать то одного человека, то другого, постоянно вступать в новые отношения : костром. пере-бо́рщица ‘разлучница, соперница’ [СГКЗ: 273]. Такая девушка может характеризоваться льстивым, угодливым поведением , стремлением приблизиться к молодому человеку: волог. под-мазу́ля ‘соперница’ [КСГРС], ср. сев.-двин., яросл. подма́зывать ‘льстить кому-л.; подольщаться, подмазываться’ [СРНГ 28: 74].
Присутствует в рассматриваемом семантическом пространстве мотив родства , как в новг., волог. своя́ня ‘соперница в любви’ [СРНГ 36: 329], костр. своя́чина ‘соперница, девушка, стремящаяся отбить парня у другой’ [ЛКТЭ], которые, вероятно, имеют связи с костр. своя́ ‘родственница со стороны мужа (жены)’ [там же].
Возможно, данные мотивационные линии объясняются тем, что в представлении языка соперники и соперницы становятся как бы свойственниками по парню или по девушке, ср. также олон. попа́рщик ‘тот, кто соперничает с кем-л., ухаживая за девушкой; соперник-ровесник’ [СРНГ 29: 298]. С. М. Толстая, исследуя дериваты прасл. *svojь , отмечает, что больше всего продолжений корня в славянских языках находим в сфере обозначения брачного родства [Толстая 2008а: 33]. Поскольку же сфера выбора партнера и свадьбы, брака близки и находятся в постоянном пересечении, то можно предполагать существование подобного перехода.
Может быть важна и другая причина, а именно следы древнего права мужских родственников жениха на невесту [СД 1: 245]. Широко известен факт возможного сожительства женщины с родственниками мужа, а именно отцом или братья- ми [СД 4: 614–615]. Такой тип конфликтов является одним из самых тяжелых среди семейных и потому обращает на себя особое внимание.
В концептуализации идеи соперничества играют важную роль пространственные образы.
Центральным мотивом является положение «напротив» , ср. арх., печор., карел., новг., пск., зап.-брян., смол., яросл., перм., ср.-приирт., иркут. супроти́вница ‘соперница в любви’ [СРНГ 42: 262], арх., вят., ленингр. сопроти́вница ‘недоброжелательница; соперница’ [СРНГ 40: 6], волог. супроти́вица ‘соперница в любви’ [СРНГ 42: 261]. Волог. лексема проти́вная в знач. сущ. ‘соперница’ [СВГ 8: 97] может быть связана как с семантикой противоположности, так и с обозначением отвращения, которое вызывает соперница у второй девушки.
Локус против чего-л. наделяется в традиционной культуре отрицательными оценками, поскольку маркирует «чужое» пространство [СД 4: 304]. При обозначении соперничества главным, как кажется, является то, что объект, расположенный напротив, осознается как нечто, что преграждает путь, а значит, противодействует, проявляет агрессию. В языковом представлении соперничества в любви мотивы враждебности, причинения вреда играют одну из ключевых ролей, ср. костром. О-ё-ё-ё-еньки, да, / О-ё-ё-ё- ё-ей. / Ой, какое горюшка, да / У миня у маладой. / Пириборщица сидит, / У самой переборочка. / Падайду – и палятят / С галавы гребёначки [СГКЗ: 273], перм., ср. Прииртышье Супротивни-цу мою изведу да иссушу [СРНГ 42: 262], иркут., свердл. супе́ра ‘соперница в любви’: Я свою суперу Веру посажу на небеса, посиди, моя супера, повыпучивай глаза (частушка) [там же: 249].
Близкую к пространственной семантику дают лексемы волог. супоста́т ‘соперник в любовных отношениях’ [СВГ 10: 158], супоста́тка ‘соперница в любовных отношениях’ [там же], супо-ста́точка волог. ‘то же’ [там же], костром. ‘то же’ [СГКЗ: 371], волог. стате́ечка ‘разлучница’ [СВГ 10: 123]. Как отмечается в этимологической литературе, устар. и высок. литер. супо-ста́т ‘противник, недруг’ происходит от *sǫ- и *po-statъ , которое связано с рус. стать [ТСлРЯ 2007: 959]. Соперники, таким образом, представляются в языке как люди, стоящие друг напротив друга. Такое положение также рождает символическую оценку отношений между субъектами ситуации как враждебных.
Отметим при этом, что в целом рассмотренные выше лексемы могут иметь также семантику вражды, ср., например, сев.-двин., волог., новг., зап.-брян., смол., яросл., костр., вят., урал., иркут. супроти́вник ‘противник, враг, неприятель’: Едет по полю, просит себе сильного супротив- ника повоевать [СРНГ 42: 262], арх. сопро-ти́вничек фольк. ласк. ‘достойный противник’: Да искал он себе да поединщичка, Поединщичка себе да сопротивничка [СРНГ 40: 6], а также встречающиеся на другой территории новг., твер., пск. супроти́вница ‘женск. к противник, враг, неприятель’: Не заводи, милой, гулянья У окошек у своих, Я большая супротивница Родителям твоим [СРНГ 42: 262]; волог. супо-ста́тель ‘противник, недруг, неприятель, враг’: Сохрани, Христос истинный, От врага супо-стателя, От злых от лихих людей [Дилактор-ский: 490], супоста́тка ‘злодейка, враг, противница, недруг’: Посылает ко мне мать верную служанку, / Свою верную служанку, мою супостатку... [там же]. Если рассматривать приведенные лексемы как многозначные, то можно предположить семантический переход ‘враг’ → ‘соперник’ при смене сферы функционирования лексем. Пространственную же символику в таком случае следует рассматривать как более древний пласт развития значения. Однозначно принять эту версию мешает преимущественное бытование лексики вражды в фольклорных текстах, а именно в исторических песнях.
Мотивировочный признак, заложенный в словах со значением ‘разлучить с помощью магических действий’, может относиться к сфере магических действий , поскольку данные лексемы принадлежат периферии поля. Так, например, с идеей магического «знания» связано волог. озна-това́ть ‘по суеверным представлениям: подчинить колдовской волшебной силе; околдовать’: Вот выйдет замуж, какая соперница найдется, ознатует, чтоб не любил муж [СРГК 4: 166].
Однако подобные лексемы могут быть образованы и по иной модели, указывающей на особенности эмоционального мира человека. Так, арх., ленингр. отсуши́ть ‘колдовством заставить разлюбить кого-н., разлучить с кем-н.’ [СРГК 4: 334] связано с целым рядом слов с корнем -сух- , имеющих семантику любви, а также любовных заговоров. По мнению С. М. Толстой, любовные переживания номинируются с помощью значения сухого , поскольку из-за душевных страданий может возникнуть «иссушение» плоти [Толстая 2008б: 56–57].
Обращает на себя внимание сравнительно небольшое число мотивационных моделей, представленных в рамках данного поля. Более того, как кажется, подавляющее большинство из них находит отражение и на других территориях. Приведем некоторые данные:
-
1) поведение: заурал., ср.-урал. грубия́н ‘соперник в любви’ [СРНГ 7: 156], урал., новосиб. грубия́нка ‘соперница в любви’ [там же], яросл. лиходе́йка, лиходе́ечка ‘соперница’ [ЯОС 6: 7],
новг. злоде́йка ‘та, которая соперничает с кем-л., добиваясь любви какого-л. мужчины; соперница’ [НОС: 335], твер. перебе́йка ‘соперница’ [СРНГ 26: 24];
-
2) мотив родства: новг. своя́к ‘соперник’ [НОС: 1067], сво́ечка ‘соперница в любви’ [там же], своя́ночка уменьш.-ласк. ‘соперница в любви’ [СРНГ 36: 329], ленингр., новг. своя́ня ‘соперница’ [СРГК 6: 20], а также отсутствующие на исследуемых территориях смол. па́сестра , пск., курск. пасё́стра ‘любовница; соперница’ [СРНГ 25: 253];
-
3) пространственный код: новг. супроти́вник ‘тот, кто соперничает с кем-л., добиваясь любви какой-л. женщины; соперник’ [НОС: 1161], су-проти́вница новг. ‘женск. к супротивник ’ [там же], перм. ‘соперница’ [СПГ 2: 420], а также не представленные на Русском Севере новг. попе-ре́чница ‘соперница’: Вот супостат-то приехал и с подругой стал гулять. Я её, поперечницу, до самой её смерти ненавидела [НОС: 905].
Вероятно, такое положение дел можно объяснить бытованием подавляющего большинства исследуемых лексем в фольклоре. Как отмечает С. Б. Адоньева, «определение ролей при описании отношений между девушками и парнями в спонтанной диалогической речи заимствуется из частушечного словаря» [Адоньева 2004: 160]. Небольшое количество мотивационных моделей и незначительные территориальные различия объясняются устойчивостью фольклорных текстов и их бытованием в разных областях.
Анализ лексического материала и текстовых высказываний позволяет предполагать, что существует некий социальный типаж соперницы (о существовании особых социальных типов в разных культурах см., например: [Еремина, Леонтьева, Щетинина 2018]). Набор устойчивых характеристик человека, вступающего в соперничество в любви, дают посвященные любовным переживаниям частушечные тексты, о которых было сказано ранее. Выделение основных мотивов приводит к выводу о существовании неких обобщенных представлений о сопернице.
В текстах чаще всего находят отражение пейоративные характеристики соперницы: волог. Пошел милый к супостаточке / Назад-то оглянись, / После ягодки-земляночки / Пошел рябину исть [СПЧ: 180]; Меня хает и ругает… / Хоть бы хаял человек; / Меня хает супротивница, / Которой хуже нет! [Симаков: 144]; волог. Изменил мене милёнок, / Думал в гору поднялся. / Ниже среднего спустился – / За последнюю взялся [ЭМТЭ].
Сопернице могут приписываться определенные особенности внешности . Она некрасива ( Супостатка, не модей, / Не красивее людей! /
Супостаткина краса – / Только черные глаза [Симаков: 139]; костр. Своя́чина моя, своя́чина хвалёная, семи водами умываешься – и всё зелёная [ЛКТЭ]); имеет плохую фигуру (волог. Гру-бияночки не знала – / Вот она которая! / Ить какая подмазуля / Широкоподолая! [КСГРС]; костр. Перебо́йка звонкая, / Как иголка тонкая, / Как с крыши перекладина, / Ещё смеётся, гадина [ЛКТЭ]); низкорослая (волог. Лиходеечка моя маленького ростика. / Она похожа на собачку, / Только нету хвостика [ЭМТЭ]); лупоглазая (костр. Ты, подружка моя Нюшка, / Лупоглазая сова, / Думаешь, отбила дролю, / А я бросила сама [там же]). Соперница бедна, у нее мало красивых вещей ( Супостаточка бела, / Бела и обходительна; / Из одного платьица / Никогда не выходила [Симаков: 140]; волог. Супостаточка заносится, / Бруслетка на руке / Все именье ее знаю – / Мыши ходят в сундуке [ЭМТЭ]).
Исполнительница частушки может осмеивать манеру говорить соперницы: Про меня подружка судит, / Что я плохо говорю; / Её, штокальницу, миленький / Не любит самою [Симаков: 144].
Тем не менее в текстах иногда содержится и положительная характеристика соперницы, признание за ней достоинств. Так, противница может представляться как красивая девушка, которая способна конкурировать с исполнительницей частушки (волог. Супостатка хороша, я ее не хуже. / Попадется на дороге – / Закупаю в луже [СПЧ: 162]). Соперница модно одета ( Су-постаточка модна – / Гребенкам утыкается, / На высоких каблуках / Ходит вытягается [Симаков: 139]), накрашена (волог. Супостаточка-мазилочка / Мазилу пролила. / Больше разу не намажется, / Посмотрим, какова [ЭМТЭ]). «Принаряживание» соперницы чаще осмеивается и расценивается как желание привлечь к себе внимание ( Супротивница-заброда / Забродила сарафан. / Она за ягодкой гоняется, / Да я то не отдам! [Симаков: 135]), жеманство (волог. Супостаточка моя / Модная-премодная / Изогнулась, извилась, / Как вица огородная [ЭМТЭ]). Однако в то же время, чтобы обойти соперницу, необходимо одеться лучше и красивее ее ( Голубое свое платье / Переделу на капот; / Перебью у супостаточки – / Наделаю хлопот! [Симаков: 134]).
Соперница чаще моложе исполнительницы частушки (Девушка-подружка, / Не тронь-ка моего: / Тебе годиков не много, / Дожидайка-сь своего! [там же: 133], Подруженька, ой! / У нас с тобой один любой! / Ты постарее меня, / Уступи-ка для меня! [там же]). В данных текстах отражено существование особой народной установки на то, что девушка должна выйти замуж в определенном возрасте. В частушках может от- ражаться и представление об очередности выхода замуж в семье: младшая сестра должна выходить замуж после старшей (волог. Под окошечком костер, / Милашка любит двух сестер. / Упала щепка с костра – / Отбила младшая сестра [СПЧ: 162]).
Сопернице приписываются определенные черты характера . В первую очередь, это хитрость ( Я сижу не весела, / Молодая девушка: / Навязалась на меня, / Хитра перебеечка [Симаков: 136]). Соперница часто говорит неправду, стремится очернить свою противницу ( Я к обеденке ходила, / Дорожка не проторная; / Подружка милому сказала, / Что я не проворная [там же: 137]; Подружка, милая моя, / Похвали дружку меня! / Подружка хитрая была, / Дружку расхаяла меня [там же]) или же напрасно пообещать любовь парню ( Не гляди, милый, на это, / Что подружка учит; / Она любить тебя не станет, / Только нас разлучит [там же: 140]).
Соперница проявляет высокомерие , ведет себя заносчиво по отношению к своей противнице: Перебо́ечка идёт, / Идёт и не поклонится. / Она боится поклониться – / Шея переломится [ЛКТЭ]; Супостатка, не куражься, / Ну, какая тебе честь: / У тя сряду и наряду, – / Одно платье красно есть! [Симаков: 145]. Она насмехается над второй девушкой, осознавая собственное превосходство: Грубиноячка моя / Ходит, как бандиточка, / Она смеется надо мной, / Такая паразиточка [ЭМТЭ].
Если говорить об особенностях поведения соперницы , то она постоянно пытается причинить вред конкурентке , ср. Супыстаточка за дролечку / Паленом хочет бить. / Я супыста-точки сказала: / Всё равно буду любить [СГКЗ: 371]; Полно, милая подружка, / Предо мной канаву рыть; / «Канаву рой, – того гляди, / Туда сама не попади!» [Симаков: 142]. Разными способами она пытается добиться внимания молодого человека: Супостаточка за миленьким / С бутылочкой бежит; / Ты не пей-ко, милый, воточ-ки: / Она приворожит! [там же: 140].
Соперница отстаивает свои права в борьбе за молодого человека, утверждает равные возможности девушек в любовном выборе: волог. Супостатка, из-за дроли / Не кляни и не ругай; / Сундучок купи окованный / Да дролю запирай! [СПЧ: 177].
Среди общих характеристик соперницы также выделяется то, что она может быть приезжей или из соседней деревни: Ты, гостейка, не мо-дей, / У нас ребят не перебей! / На денек приехала, / На перебой поехала! [Симаков: 135]; во-лог. Супоста́тка прибежала / Из чужой де-ре́вушки, / Я даю рекомендацию: / Гоните, девушки! [ЭМТЭ].
Исполнительница частушки может высмеивать соперницу за то, что та не обладает качествами, которые особенно ценятся в традиционном социуме. Она плохая хозяйка (волог. Су-противница смеется, / А сама-то какова? / Две недели пришивала / К белой кофте рукава [СПЧ: 177]; Супостаточка моя / Не садовый яблычек: / Полторы недели шила / На машине фартучек [Симаков: 138]), не умеет исполнять частушки (волог. Милый, вашей ухажерочке / Не спеть и не сплясать: / Она сидит, повесив голову, / Не знает, что сказать [ЭМТЭ]).
Итак, анализ русской вербальной традиции показывает важное положение идеи соперничества в любви в традиционном социуме. Однако, поскольку соперничество является одним из важнейших социальных феноменов, можно предполагать, что разные формы общественной жизни обусловливают акцентирование различных видов соперничества. Действительно, сферы столкновения интересов людей принципиально различаются в зависимости от условий, в которых человек живет, от ценностей и задач, предлагаемых тем или иным укладом. Таким образом, вероятно, ведущее положение лексики соперничества в любви во всем массиве языковых фактов, связанных с воплощением соревновательности и вражды, характерно не для всех культур. Попробуем обосновать данное положение.
Изучение специфики соперничества в разных обществах требует отдельного объемного исследования, которое невозможно вместить в рамки одной статьи. Тем не менее приведем некоторые показательные примеры, подтверждающие нашу гипотезу.
Мы осуществили пилотную выборку контекстов из Национального корпуса русского языка с лексемами соперник и соперница . Предварительный подсчет числа контекстов, связанных с той или иной тематической областью, показывает, что ведущей сферой в современном городском дискурсе, где проявляется соперничество, является сфера профессионального спорта (37 % относительно числа всех контекстов в исследованной выборке): В пиковые эпизоды аргентинцы отлично сочетали агрессию с хладнокровием и неизменно забивали нужный – “тот самый” – мяч, который помогал им отразить очередную эмоциональную атаку соперника и сохранить инициативу за собой [Дмитрий Навоша. Манья-но у Карла украл победу. DreamTeam терпит первое поражение в истории // Известия. 2002.09.05]3. При этом зачастую слово соперник употребляется в собирательном значении: Но позволив сопернику размочить счёт, наши только сильнее разозлились и в четвёртой партии просто разгромили бразильскую команду
[Семен Новопрудский. Два прихлопа. Сборная России по волейболу впервые выиграла Мировую лигу // Известия. 2002.08.19].
Зачастую о соперничестве говорится в контексте политической борьбы (14 % контекстов): Однако в Берлине не созывают совещаний, посвящённых пугающему росту антигерманских настроений. Ревность к удачливому сопернику тоже аргумент сомнительный. Положим, наша страна действительно соперничала с США и досоперничалась до нынешнего лютого антиамериканизма. Но это не объясняет антиамериканских настроений в тех странах, которые в силу объективных причин соперничать с США были в принципе не в состоянии [Максим Соколов. Меня уже никто не любит. Колонка обозревателя // Известия. 2002.09.25]; Выяснилось, что на трибунах для почётных гостей могут одновременно оказаться и нынешний президент Жак Ширак, и его неудачливый соперник на последних выборах, бывший премьер-социалист Лионель Жоспен [Эльмар Гусейнов. Тарпищев пообещал водку и икру от Ельцина // Известия. 2002.11.27].
21 % материала составляют контексты, содержащие указание на соперничество в любви: Далее шла подружка и соперница Лилечка. Ма-ецкий, которого она у Лилечки увела. Известный режиссёр [Людмила Улицкая. Пиковая дама (1995–2000)].
Остальные сферы не отличаются столь значительной наполненностью, но представлено также соперничество профессиональное, а также возникшее по разным причинам на бытовой почве.
Русские диалекты дают иную картину. Действительно, особенности социальной жизни обусловливают возникновение тех или иных форм соперничества или их полное отсутствие. Так, в имеющихся у нас диалектных данных нет лексики, обозначающей соперничество по идеологическим и политическим причинам.
Спортивное соревнование в той форме, в которой оно существует в современном городе, также не свойственно традиционному укладу. Спорт предполагает жесткое противостояние, обусловленное стремлением доказать собственное превосходство. Такая форма соревновательности рождается на профессиональной почве, а также зачастую имеет точки соприкосновения с политическим противостоянием.
В традиционном обществе, как кажется, не существует такого рода конфликта. Спортивные состязания можно сопоставить с некоторыми видами игр (например, игры с соревнованием), однако все они осуществляют иные функции. Как известно, народные игры служат для социализации и консолидации в обществе, имеют развлекательные цели, а также могут быть связаны с магическими ритуалами, будучи сопряженными с обрядом [СД 2: 382].
По-видимому, подобные устоявшиеся в культуре функции игр и соревнований снимают негативную составляющую в отношениях между участниками. Именно поэтому соперничество не получает в данном случае особого номинативного воплощения и по своим свойствам сближается с партнерством, ср. характерный пример: костр. сте́нка, в сте́нку ‘детская игра, цель которой кинуть монетку об стену так, чтобы она, отскочив, попала как можно ближе к монетке соперника’: В сте́нку игра́ешь: берё́шь де́нежки, об сте́нку – и далё́ко ли упадё́т. А друго́му на́до к твое́й по-бли́же. Он ки́нул – и е́сли че́твертью от твое́й мо́жно доста́ть – забира́ет [ЛКТЭ] .
В диалектной лексической системе, как кажется, иначе, чем в современном городском дискурсе, воплощается идея соперничества на профессиональном поприще. Как отмечает М. А. Еремина, трудовая деятельность может представляться в диалектах «как своего рода соревнование между субъектами труда» [Еремина 2003: 101], однако умение оказаться впереди остальных, проявить особое усердие и превзойти остальных оценивается положительно [там же]. Очевидно, существуют некоторые различия в восприятии труда в разных культурах. Традиционной общинности в некоторой степени противопоставлено более индивидуализированное современное сознание. Деревенскому обществу, по нашей гипотезе, в большей степени присущи коллективный характер труда и ориентированность на общий результат в противопоставление индивидуальным стремлениям к преуспеванию и межличностной борьбе в городском социуме. По мнению М. А. Ереминой, основными условиями деревенского труда «являются коллектив, а также отношения одновременно согласия и соревнования между его членами» [там же]. Тем не менее нельзя не отметить, что поднятая проблема является очень обширной и заслуживает отдельного изучения.
Понимание соперничества также может меняться в разные эпохи. Так, например, в русских диалектах слова волог., новг. супоста́т ‘о сопернике в любви’ [СРНГ 42: 255–256], арх., печор., карел., новг., пск., зап.-брян., смол., яросл., перм., иркут. супроти́вница ‘соперница в любви’ [там же: 262], волог. лиходе́ичка ‘соперница’: Супостатка та, если отбивает кавалера, модё-ная, лиходеичка – та же супостаточка [СГРС 7: 108] употребляются, как мы можем отметить, в контексте бытовых взаимоотношений. Однако в древнерусском языке эта лексика использовалась в военном и религиозном дискурсе и обозначала более острые формы противостояния, ср.
сѫпостатъ ‘неприятель, враг’: Сѫпостати наши попрашя ст҃ыню твоѫ , Аще воини Хви есмъ, пѫтьмь истины, троуда длъжъни есмъ ходити и мѫжьскы сто ꙗ ти на сѫпостата нашего , Соупостатъ нашь дь ꙗ волъ , ‘враг, дьявол’, ‘противник, противоборец (в переносн. знач.)’ [Срезневский 3: 620–621]; сѫпротивьникъ ‘враг, противник’, ‘дьявол’: Побѣдивъ мирьскую похоть и миродержьця князя вѣка сего, супротивника [там же: 623], сѫпротивьныи ‘в знач. сущ. враг, неприятель’, ‘противник’: Iу҃сова вель-чьства прѣвъзвышѧтисѧ сѫпротивноуоумоу , ‘враг, дьявол’: Избави ихъ древнѧ ꙗ прельсти и козни соупротивнаго [там же: 624]; лиходѣи : Кто лиходѣи великихъ князеи побѣжитъ изъ Русскои земли…, и Новугороду тыхъ лиходѣевъ не приимати [Срезневский 2: 28]4.
Итак, обобщая вышесказанное, отметим, что соперничество в любви занимает важнейшее положение в традиционной культуре. Именно противостояние на почве выбора пары получает особое лексическое выражение (по сравнению с другими формами борьбы), осмысление в фольклоре, а также имеет множество форм акцио-нального выражения. По-видимому, такое положение дел характерно именно для диалектного дискурса.
Соперничество в любви в большей степени мыслится, по данным говоров Русского Севера, как женское «занятие», поскольку возможности женщин в выборе значительно ограничены. Противостояние происходит, как правило, в форме частушечного агона, где девушки могут высказать свои догадки об измене, обнаружить свои чувства и эмоции.
В частушках формируется устойчивый образ соперницы в любви. Как правило, представление о противнице наполнено отрицательными коннотациями, ей приписываются различные негативные черты внешности, характера и поведения.
Примечания
-
1 Исследование выполнено в рамках проекта 34.2316.2017/ПЧ «Волго-Двинское междуречье и Белозерский край: история и культура регионов по лингвистическим данным», поддержанного Минобрнауки РФ.
-
2 Подчеркнем, что такой вид соперничества, в свою очередь, является уникальным для деревенского социума.
-
3 Здесь и далее данные из НКРЯ приводятся без паспортизации.
-
4 Отметим также и то, что такие значения фиксируются диалектными словарями, однако контексты показывают, что употребляются подобные лексемы преимущественно в составе исторических песен и былин: перм., волог. супо-
- ста́тель ‘супостат, неприятель, враг’: Уж мы ждали неприятеля, Неприятеля да супостателя короля шведского [СРНГ 42: 256], супроти́вник томск. ‘противник, враг, неприятель’: Едет по полю, просит себе сильного супротивника повоевать, олон. ‘участник поединка’: Выкликает он поединщица, супротив себя да супротивника [там же: 262].
REFLECTION OF LOVE RIVALRY IN DIALECT LEXIS
(Based on Examples from the Russian North Dialects)
Yana V. Malkova
Research Assistant in the Toponymic Laboratory of the Department of Russian Language, General Linguistics and Verbal Communication
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin
ResearcherID: P-8937-2018
Submitted 25.08.2019
Список литературы Соперничество в любви в зеркале диалектной лексики (на материале говоров русского севера)
- Адоньева С. В. Прагматика фольклора. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; Амфора, 2004. 312 с.
- Березович Е. Л., Леонтьева Т. В. Наветка как форма символического осуждения // Живая старина. 2016. № 2(90). С. 49-52.
- Березович Е. Л., Леонтьева Т. В. НАМЕК в диалектной лингвокультурной среде: жанровая разновидность частушек и лексические репрезентации понятия // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2017. № 47. С. 5-27.
- Гура А. В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: семантика и символика. М.: Индрик, 2011. 936 с.
- Еремина М. А. Лексико-семантическое поле «Отношение человека к труду» в лексике русских народных говоров: этнолингвистический аспект: дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 2003. 244 с.
- Еремина М. А., Леонтьева Т. В., Щетинина А. В. Галерея лингвистических портретов социальных типажей / отв. ред. Т. В. Леонтьева. Екатеринбург: Ажур, 2018. 332 с.
- Зверева Ю. В. Наименования человека по отношению к браку в пермских говорах // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2013. Вып. 1(21). С. 28-36.
- Толстая С. М. Слав. *svoj: семантика и аксиология // Etnolingwistyka: Problemy języka i kultury. Lublin, 2008а. T. 20. S. 29-38.
- Толстая С. М. Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе. М.: Индрик, 2008б. 528 с.