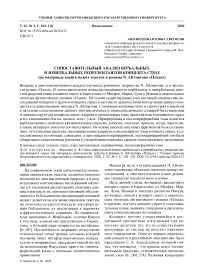Сопоставительный анализ вербальных и невербальных репрезентантов концепта страх (на материале евангельских текстов и романа Ч. Айтматова «Плаха»)
Автор: Аветисян Ани Фердинантовна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 3 т.42, 2020 года.
Бесплатный доступ
Впервые в лингвокогнитивном аспекте изучается романное творчество Ч. Айтматова, и в частности роман «Плаха». В сопоставительном плане рассматриваются вербальные и невербальные средства репрезентации концепта страх в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна и евангельских эпизодах айтматовского романа «Плаха». На основе существующих в когнитивной лингвистике исследований концепта в целом и концепта страх в частности делается попытка изучения данного концепта в художественном дискурсе Ч. Айтматова. С помощью компонентного и структурного анализов и на основе сопоставления данных лингвистических и энциклопедических словарей была выявлена и описана структура концепта страх: ядерная и околоядерная зоны представлены номинантом страх и его синонимами боязнь, паника, испуг, ужас. Периферийная и околопериферийная зоны концепта вербализованы с помощью квазисинонимов страсть, робость, опасение, трепет, жуть, трусость, а также метафор и эпитетов соответственно. На основе анализа текстовых фрагментов было установлено, что языковые средства, эксплицирующие ядерную и околоядерную зоны концепта страх, в сопоставляемых источниках совпадают, а при описании периферийной, околопериферийной зон были обнаружены существенные различия в употреблении языковых средств сопоставляемых источников.
Концепт, страх, ядро, околоядерная, периферийная, околопериферийная зоны
Короткий адрес: https://sciup.org/147226581
IDR: 147226581 | УДК: 81'1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2020.472
Текст научной статьи Сопоставительный анализ вербальных и невербальных репрезентантов концепта страх (на материале евангельских текстов и романа Ч. Айтматова «Плаха»)
На современном этапе продолжается осмысление евангельских текстов, делаются попытки изучения их лингвистической природы, а в силу актуальности когнитивных исследований наблюдается тенденция рассмотрения языковых единиц в контексте их лингвокогнитивной обусловленности. В большинстве исследований основной акцент делается на изучение переводов текстов, на лингвокультурологическую интерпретацию библеизмов, их реализацию в паремиях и фразеологических единицах. По справедливому замечанию А. Вежбицкой, «учение Иисуса в том виде, в каком оно представлено в Евангелиях, в большей мере опирается на метафоры» [6: 501]. Исследователь выражает недоумение относительно точки зрения, согласно которой изучение таких метафор невозможно, нежелательно и неправильно, предлагает новый взгляд на истолкование Иисусовых притч на «неметафорический язык» с помощью семантических примитивов.
Несмотря на то что произведения Ч. Айтматова становились объектом многочисленных исследований, в лингвистическом плане романное творчество писателя мало изучено.
Цель данной статьи, во-первых, рассмотреть концепт страх в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки, Иоанна в эпизодaх распятия Иисуса, во-вторых, описать концепт страх в евангельских эпизодах айтматовского романа «Плаха», в-третьих, изучить концепт страх в сопоставительном плане, выявить схождения и расхождения в сопоставляемых источниках.
Kонцепт, прочно утвердившийся в когнитивной лингвистике и изучаемый уже несколько десятков лет, из-за существующих контроверз до сих пор не получил однозначного определения. Одно из первых определений концепта в российской лингвистике было предложено С. А. Аскольдовым, который считал, что концепты – это прежде всего «познавательные средства», «схематическое представление ума» [6: 269, 274]. Развивая концепцию
С. А. Аскольдова, Д. С. Лихачев трактует концепт как «алгебраическое выражение значения», существующее в каждом основном значении слова. Концепт необходим для облегчения общения, для дифференциации и расширения значения слова [14: 243].
В формате данной статьи мы считаем целесообразным лингвокогнитивный анализ концепта. Обобщая исследования Е. С. Кубряковой, Н. Н. Болдырева, Н. Ф. Алефиренко, И. А. Стернина, З. Д. Поповой, А. П. Бабушкина, Л. О. Чер-нейко, мы считаем, что концепт – результат взаимодействия значения слова с опытом взаимодействия человека с окружающей действительностью, и его интерпретация имеет следующий вид: «…от содержания значений к содержанию концептов»1. Концепты – базовые единицы, несущие в себе «энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении» [16: 9], «кванты»2, универсальные оперативные единицы памяти, которые кодируются в языке и по-разному вербализуются в зависимости от лингвистических, прагматических и культурологических факторов, закрепляя за собой различные значения. Концепты – формирующиеся в сознании человека глобальные мыслительные единицы, идеальные сущности, которые возникают в процессе познания и категоризации объектов, являющихся «источником семантической структуры языкового знака» [15: 62].
Выдвигая мысль о существовании в каждом языке универсальных и самобытных эмоциональных концептов, А. Вежбицкая через теорию концептуальных семантических примитивов предлагает экспликацию таких эмоциональных концептов, как страх , гнев , печаль , счастье. Предлагая усовершенствованную теорию истолкования данных концептов, исследователь «переводит» на понятный для всех язык сложные эмоциональные состояния людей. С помощью этого метода исследователь считает возможным выявление тончайших стилистических различий между синонимами.
Рассматривая языковое выражение эмоциональной системы человека, Ю. Д. Апресян выделяет первичные (к ним относятся и страх) и окультуренные (надежда, удивление и др.) эмоции. Все эмоции человека, по мнению исследователя, сосредоточены в душе, сердце или груди, а их рассмотрение целесообразно через систему восприятия, так как оно наилучшим образом демонстрирует связь между «способом концептуализации и лексикографическим типом» [4: 356]. Все исследуемые автором эмоции разбиты на подсистемы и объединены в более крупные классы. Очень часто это происходит по принципу «тело – дух». Так, душевное состояние страха подобно чувству холода, то есть «тело реагирует на страх, как на холод». По принципу «душевное состояние – физическое состояние» исследователь изучает и другие пары эмоций [4: 366].
Развивая данную точку зрения в коллективной монографии, С. З. Агранович и Е. Е. Сте-фанский своеобразно интерпретируют концепт страх. Исследуя семантические различия лексем срам, стыд, совесть , позор, авторы делают следующее заключение: срам есть социальный страх. В доказательство данного заключения ученые приводят пословицы и семанализ «ритуальной маркировки тела первобытного человека (обрезание, прикрытие “срамных мест”)», возникающие в результате нарушения табу. Нарушившие табу и испытывающие социальный страх имеют такие же ощущения, считают авторы данной концепции, как при биологическом страхе: холод, жара, боль, агрессия [1: 40].
Подробный сопоставительный анализ концепта страх на основе русского и английского языков был проведен С. В. Зайкиной. Исследователем были описаны лексико-фразеологические средства, номинирующие концепт страх [3: 248]. По мнению Д. О. Добровольского, адекватное изучение сферы эмоций возможно на основе фиксируемых в языке тропеических выражений, необходимых для формирования концептуальной базы «невидимых» феноменов [10: 81]. В философской концепции стоиков: 1) страх – ожидание зла; ужас, робость, стыд, потрясение, испуг, мучение; 2) ужас – страх, наводящий оцепенение; 4) стыд – страх бесчестия; 5) робость – страх совершить действие; 6) потрясение - страх от непривычного представления; 7) испуг - страх, от которого отнимается язык; 8) мучение – страх перед неясным [13: 280].
Обобщая вышеизложенное, следует подчеркнуть, что концепты – это многомерные единицы сознания, получившие языковое воплощение, это средства для рационализации и упорядочения знаний о внешнем мире в процессе познавательной деятельности человека. Концепты организованы по полевому принципу, в их структуре выделяются следующие компоненты: ядро и око-лоядерная зона, периферия и околопериферийная зоны. Средствами вербализации концепта могут служить лексемы, фразеологические сочетания, метафоры, высказывания, текст и невербальные репрезентаты.
В данной статье исследование концепта будет иметь следующий вид: 1) выявление и описание номинантов данного концепта на основе дефиниций лексемы страх в лингвистических и энциклопедических словарях; 2) рассмотрение структуры исследуемого концепта; 3) сопоставительное исследование вербальных и невербальных репрезентантов концепта в евангельских текстах и отрывках романа.
***
Номинантом концепта страх в сопоставляемых источниках является лексема страх в значении:
«Страсть, боязнь, робость, сильное опасенье, тревожное состоянье души от испуга, от грозящего или воображаемого бедствия. Предмет, рождающий страх»3.
Что же чувствовал Иисус в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки, Иоанна? Чувствовал ли страх? Какое выражение получает концепт страх в Евангелиях? Фрагментарный анализ Евангелий помог установить, что наиболее ярко выражены невербальные репрезентанты концепта страх , но в Евангелиях находим и вербальные репрезентанты.
В Евангелии от Матфея концепт страх вербализуется 11 лексемами: страх (2), испугаться (2), ужасаться (1), трепет (1), бояться (5). Ни одно из них не отражает состояние души Иисуса. Чувства Иисуса ночью в Гефсимании описаны двумя глаголами: скорбеть и тосковать: « Душа Моя скорбит смертельно <..> Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия, не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:38-39). Следует отметить, что, изучив словарные дефиниции данных лексем в словаре В. И. Даля, мы обнаружили семантические параллели между лексемами тоска и страх: «ТОСКА ж. (теснить?) стеснение духа, томление души, мучительная грусть; душевная тревога, беспокойство, боязнь, скука, горе, печаль, нойка сердца, скорбь»4.
Разговора между Иисусом и Пилатом практически нет, на все вопросы прокуратора Иисус не дает никаких ответов, молчит. Пилат склонен к тому, чтоб оправдать Иисуса, однако толпа сурова:
« Говорят ему все: да будет распят». Пройдя через все мучения «около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил? Опять возопив громким голосом, испустил дух» (Мф. 27:22, 46).
В Евангелии от Марка концепт страх вербализуется 23 лексемами: страх (4), испуг (1), бояться (8), трепет (2), находим лишь одно употребление лексемы ужасаться: «И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать» (Мк. 14:33). Чувства, испытыва- емые Иисусом ночью в Гефсимании, выражены глаголами тосковать и ужасаться:
« <...> начал ужасаться и тосковать. И сказал им: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте. И, отойдя немного, пал на землю и молился <...> и говорил: Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты» (Мк. 14:34–36).
Перед смертью Иисус был неразговорчив и на все вопросы Пилата отвечал молчанием. В надежде оправдать Иисуса Пилат обращается к толпе и получает ответ:
«Распни Его». «В девятом часу возопил Иисус громким голосом <М> Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? <..> Иисус же, возгласив громко, испустил дух» (Мк. 15:34-37).
В Евангелии от Луки концепт страх вербализуется 18 лексемами: страх (9 употреблений), испуг (1 употребление), бояться (7 употреблений), трепет (1 употребление). Испытываемые Иисусом чувства перед распятием ночью в Гефсимании описаны следующим образом: « И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю» (Лк. 22:44). Преодолев все надругательства и мучения, Иисус ничего не сказал Пилату, который хотел оправдания, но толпа решила:
«Распни, распни Его!». <..> Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! В руки Твои передаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух» (Лк. 23:21, 46).
В этом отрывке чувства, испытываемые Иисусом, схожи с комментариями Ч. Айтматова о состоянии своего героя.
В Евангелии от Иоанна концепт страх вербализуется 6 лексемами: страх (2), испугаться (1), бояться (3). Иисус в Гефсимании только молится, смирившись: « Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставлю мир и иду к Отцу» (Ин. 16:28). Пилату Иисус пытался объяснить, что лишь донес слово Отца о истине. Но, в отличие от трех предыдущих Евангелий, здесь Пилат предстает жестоким и хладнокровным. И несмотря на то что он дает приказ бить Иисуса, тем не менее в последний раз просит у толпы отпустить Иисуса и получает ответ: «Распни, распни Его!» (Ин. 19:6). Из данного отрывка можно заключить, что айтматовский Пилат похож на евангельского. На кресте мучающегося от жажды Иисуса напоили уксусом: « <...> когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: свершилось! И, преклонив голову, предал дух» (Ин. 19:30).
Итак, ядром концепта страх в Евангелиях является номинант страх. Следует отметить, что к концепту в данных источниках нецелесообразно применение предложенной выше схемы, так как границы между зонами концепта нечетко очерчены. Так, слабо представлены периферия и околопериферийная зона, а околоядерная зона не образует никаких лексико-семантических полей. В целом большая часть репрезентантов концепта страх в Евангелиях представлена глаголами (54 %), существительными (43 %, из которых 7,8 % отглагольные существительные), краткими прилагательными (3 %) в 64 употреблениях.
Перейдем к роману Ч. Айтматова «Плаха». Концепт страх в романе «Плаха» вербализуется 68 словами и выражениями, имеющими различную частеречную принадлежность: из которых 20,6 % – существительные (отглагольные существительные представлены в большом количестве: испуг, трепет, боязнь, опасение и др.), 16,2 % – прилагательные, 8,8 % – наречия, 54,4 % – спрягаемые формы глагола, а также причастия и деепричастия ( боясь , пугающий , устрашающий , страшась , непуганый и др.) в 212 употреблениях. В романе встречаем одно разговорное употребление ( опаска ) и одно употребление лексемы страх в значении междометия («Ой страх-то какой!»).
Ядром концепта страх является номи-нант страх в вышеприведенном значении.
Околоядерная зона представлена многокомпонентным лексико-семантическим полем страх и широким арсеналом распространяющих его метафор и эпитетов. Лесксико-семантическое поле: страх - страшить - устрашить - устрашающий - страшиться - страшать - страшный - страшно - страшноватый : «страх охватил», «страх передался материнской кровью», «разделить страх», «нагнать страху», «натерпеться страху», «страх выходил криком», «страшный день», «страшный город», «страшный круг», «страшная догадка», «страшная истина», «страшный порок», «страшное возмездие», «страшная участь», «страшная погоня», «страшная нужда», «страшная трагедия», «страшная слава» и др.
В результате анализа распространяющих околоядерную зону единиц были выделены наиболее продуктивные модели словосочетаний: глагольные («страх достиг», «страх и ненависть сужают планету », « томление, страх, тоска обуревали», «страх уступил место » и др.) и адъективные («жуткий страх», «безрассудный страх», «затаенный страх» и др.).
Единицы периферийной зоны были выделены нами на основании обобщения данных «Русского идеографического словаря» и «Но- вого объяснительного словаря синонимов русского языка», в которых в качестве синонимов приводятся лексемы боязнь, испуг, ужас, па-ника5 [9: 1109]. Характерно, что, автор второго словаря считает страх чувством, которое может испытать любое живое существо, а боязнь и ужас – чувства, испытываемые только человеком. Каждый из синонимов образует лексико-семантическое поле: боязнь - бояться -убояться - побояться - побаиваясь - боясь. Многокомпонентное поле синонима испуг: испуг - перепуг - испугаться - пугать - пугающий - испуганно - непуганый - подпугнуть -вспугнуть - спугнутый - припугнуть - отпугнуть - подпугнуть. Микрополе синонима ужас: ужас - ужаснуться - ужасный - ужасно. Лексико-семантическое микрополе синонима паника: паника - панический - панически. Периферийную зону распространяют также эпитеты: «черная река дикого ужаса», «слепая боязнь», «панические вопли», «беспорядочная паника», «панический бег»; метафоры: «испытывать ужас», «ужас обуял», «пережить ужас», «преисполнился ужасом», «нагнетать панику».
Номинанты и их производные, образующие и выражающие содержание концепта, имеют следующую периферийную зону и частотную характеристику: боязнь – 20, испуг – 37, ужас – 24 и паника – 7. Они представляют существенные признаки концепта и связаны синонимическими отношениями.
Околопериферийная зона характеризуется ослабленностью семантических связей с лексемами ядра концепта и образуется с помощью следующих квазисинонимов: робость, трепет, жуть, трусость, опасение. В романе находим два употребления лексемы трепет :
« Авдий встрепенулся было - он с детства любил стоять смотреть, куда несутся пассажирские поезда, кто мелькает в окнах, чьи фигуры и лица » (91). « Авдий с детства любил следить за поездами: ведь он еще застал послевоенные паровозы, те романтические машины, выбрасывавшие могучие столбы дыма и клубы пара, оглашавшие гудками окрестность, - но он не представлял себе, что с таким трепетом будет ожидать поезд, ведь ему предстояло незаконно и более того - насильственно проникнуть в него» 6 (103).
Лексема трус образует лексико-семантическое микрополе: трус - трусливый - трусливо -трусость.
«Трусость псов возмущала хозяев» (185). «К удивлению присутствующих, Жайсан злобно заворчал, поджал хвост, втянул голову и кинулся наутек. И только потом, уже во дворе, под окном, залаял трусливо и жалко» (189). «А редактор - мы с ним когда-то вместе учились, трус и подхалим каких мало - от таких слов даже заикаться начал» (191). «Я ему уже говорил и опять скажу прямо в лицо: он поступил, как трусливый провокатор» (234).
В романе было выявлено 9 употреблений лексемы жуть и его производных:
« Когда на глазах Акбары и ее стаи случилось это жуткое нападение вертолетов, волки сначала притаились, от страха вжимаясь в корневища чиев, но затем не выдержали и бросились наутек от проклятого места» (23). « Вой нагонял жуть» (196). « Вдруг он обнаруживает, что запасной фонарик куда-то исчез, запропастился, и от этого ему не по себе. Тревожно и жутко » (224) и др.
Также обнаружено два употребления лексемы робость в качестве квазисинонима лексемы страх :
« Стыдно признаться, но я был настолько поражен твоим появлением, что и теперь не могу отделаться от чувства робости и восторга » (156-157). « Если точнее, то Гамлет-Галкин и Абориген-Узюк-бай только при сем присутствовали и пытались, правда робко и жалко, как-то смягчить свирепость тех троих, вершивших суд » (164).
И наконец, околопериферийную зону образует многокомпонентное лексико-семантическое поле лексемы опасение : опасение - опаска - обезопасить - опасаться - опасаясь - опасность -безопасность - опасный - безопасный - небезопасно:
«Но опасения ее были напрасны» (6). « Вот и суетилось вокруг сурочье племя, презрев опасность » (11). « Волкам надо было исчезнуть, унести ноги, двинуться куда-нибудь в безопасное место, однако именно этому не суждено было осуществиться » (23) и др.
Обратившись к словарным дефинициям лингвистических и энциклопедических словарей, на основе фрагментарного анализа Евангелий и романа нами были выявлены и описаны следующие фреймы концепта страх:
-
1. Фрейм «Страх – душевное состояние». Страх во всех анализируемых нами источниках -терзающее и раздирающее душу мучительное чувство, которое заостряется образами ночи и города в романе, а Иисус в Евангелиях чувствует тоску и скорбь.
-
2. Фрейм «Страх – живое существо».
-
3. Фрейм «Страшный суд». Наиболее яркое выражение этот фрейм получает в Евангелиях. Иисус предупреждает о суде каждого согрешившего на своем пути:
«Еще прошлой ночью в Гефсимании на Масличной горе я изнывал, ужасался от тоски, навалившейся, как черная ночь, не находил себе места и, бодрствуя с учениками, все не мог успокоиться и в предчув-ствии страшном дошел до кровавого пота» (120). «Страшусь я смерти, и ноги мои холодеют, хотя сегодня так невыносимо жарко» (122) . «Да, наместник римский, я страшусь свирепой казни» (116) .
«А только места я себе не находил, томление, страх и тоска обуревали меня, и звуки тягостные вро- де бы из сердца моего в небо уходили (129). «<...> а я летал как одинокая пушинка в поднебесье, томимый страхом и предчувствием дурным, и думал - вот конец света.» (130).
« Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда.» (Мф. 12:36). «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы.» (Ин. 3:19).
В романе идея о Страшном суде выражена в следующих отрывках:
« .а воскреснув, вернешься в один прекрасный день на землю и учинишь Страшный суд и над теми, кто сейчас живет, и над теми, кто еще явится на свет.» (124) . « - Постой, а как же Страшный суд, столь грозно провозглашаемый тобою? - Страшный суд <.> а ты не думал, правитель римский, что он давно уже свершается над нами? - Не хочешь ли ты сказать, что вся наша жизнь - Страшный суд?» (126) .
Сопоставление ассоциативного ряда слов-стимулов Русского ассоциативного словаря (РАС) и ассоциативного поля отрывка айтматовского романа совпадают. Слова ( ужас (7), божий (5), смерть (5)), занимающие лидирующие позиции по частотности ассоциаций, возникающих с эмоцией страха из РАС, практически совпадают с эмоциональным фоном отрывка романа7. В РАС находим ассоциативный ряд из 71 реакции на слово-стимул страх , из которых по наибольшей частотности употребления выделяются слова-стимулы ужас (7), божий (5) и смерть (5) 8 . Приведенные слова-стимулы позволили выявить некоторые особенности при вербализации: 1) в большинстве случаев страх ассоциируется с отрицательными эмоциями, характерными для каждой социальной группы (для водителя -за рулем машины, общения с милицией, гаишниками; для студента – перед экзаменом и др.). 2) Чувство страха соотносится с ночью, высотой, темнотой , оно становится источником ненависти, депрессии, является результатом отрицательного (кратковременного или долгосрочного) воздействия на сознание. Те же особенности характерны для романа.
В основе исследуемого нами концепта лежит универсальное понятие эмоции, поэтому в отрывке, помимо выделенных вербальных репрезентантов концепта, встречаются и невербальные маркеры. Для их описания автор прибегает к стилистическим приемам. Во-первых, это метафоры, усиливающиеся повторами и предваряющие страшную сцену распятия, накаляющие ситуацию и наводящие ужас:
«Город ждал того, кто стоял на допросе перед прокуратором. Гнусный город ждал жертвы. Городу требовалось сегодня в этот зной кровавое действо, его тeмные, как ночь, инстинкты жаждали встряски – и тогда бы уличные толпы захлебнулись ревом и плачем, как стаи шакалов, воющих и злобно лающих, когда они видят, как разъяренный лев терзает в ливийской пустыне зебру. Понтию Пилату приходилось видеть такие сцены и среди зверей и среди людей, и внутренне он ужаснулся, представив себе на миг, как будет проходить распятие на кресте» (113).
Невербальные маркеры эмоции страх выражены через авторский комментарий:
« Иисус тяжко вздохнул, бледнея при одной мысли…» (113). « На бледном челе Иисуса проступил обильный пот» (114). «˂…˃ от страха к горлу подкатила тошнота, и пот заструился вниз по лицу, падая каплями на мраморные плиты у худых жилистых ног» (114). « Прозрачно-синие глаза Иисуса потемнели, и он замкнулся в себе» (131).
Во-вторых, депрессивное, нервное состояние Понтия Пилата:
«Прок уратор же был сильно не в духе ˂…˃ он был раздражен» (111). «˂…˃ вскричал Прокуратор и вскочил вне себя от гнева …» (115). « Понтий Пилат возмутился» (118).
В-третьих, ужас и боязнь, которые чувствует Иисус:
«На бледном челе Иисуса проступил обильный пот. Но он не утирал его ни ладонью, ни оборванным рукавом хламиды, ему было не до того – от страха к горлу подкатила тошнота, и пот заструился вниз по лицу, падая каплями на мраморные плиты у худых жилистых ног » (114). «Мама, если бы ты знала, как мне тяжко! Еще прошлой ночью в Гефсимании на Масличной горе я изнывал, ужасался от тоски, навалившейся, как черная ночь, не находил себе места и, бодрствуя с учениками, все не мог успокоиться и в предчувствии страшном дошел до кровавого пота» (120).
В отрывке романа находим и ассоциативные связи страха и смерти :
« То твоя смерть кружит!» (111). « ˂…˃ нет большего горя для человека, чем смерть…». «Страшусь я смерти, и ноги мои холодеют, хотя сегодня так невыносимо жарко» (122). « Ведь смерть каждого человека – конец света для него» (129).
Символичным является и видение Иисуса, где вырисовывается следующий ассоциативный ряд:
темная ночь, умерщвлять, убил, томимый страхом, мертво:
« я бродил той темной ночью», «все было мертво, все было сплошь покрыто черным пеплом», «я летал как одинокая пушинка в поднебесье, томимый страхом и предчувствием дурным», «свирепый мир людской себя убил в свирепости своей» (130).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сопоставив обрисованные в Евангелиях образы Иисуса с образом айтматовского героя, мы пришли к выводу: последний – собирательный образ, так как в нем скомбинированы характерные черты Иисуса из всех четырех Евангелий. Айтматовский Иисус ночью в Гефсимании испытывает и страх, и ужас от тоски, он «не находил себе места и, бодрствуя с учениками, все не мог успокоиться, и в предчувствии страшном дошел до кровавого пота » (120). Во всех сопоставляемых источниках Иисус чувствовал страх перед смертью.
В исследуемых источниках количество лексем, вербализующих концепт, одинаково. И в Евангелиях, и в романе превалируют глаголы. Структура концепта в исследуемых источниках различна: в романе концепт имеет четкую структуру и границы между зонами ярко выражены, в Евангелиях – нет. В последних не наблюдается разнообразия лексических средств, вербализующих отдельные зоны концепта, в отличие от романа, где имеем и синонимические средства вербализации, и квазисинонимы, и лексико-семантические поля, и метафоры, и эпитеты. В обоих источниках есть невербальные средства репрезентации, которые придают концепту аксиологическую значимость. Невербальные репрезентаты в Евангелиях передаются с помощью диалогов между Пилатом и Иисусом (практически всегда Иисус малословен, подавлен, испуган, Пилат – раздражителен, агрессивен, жесток). В романе невербальные маркеры представлены авторскими комментариями и стилистическими приемами, описывающими место действия и состояние главных героев. На основе сопоставления анализируемых источников и словарных дефиниций лингвистических и энциклопедических статей нами также была разработана фреймовая модель концепта страх , которая еще раз подтвердила результаты лингвокогнитивного анализа данного концепта «от содержания значения к содержанию концепта» .
Список литературы Сопоставительный анализ вербальных и невербальных репрезентантов концепта страх (на материале евангельских текстов и романа Ч. Айтматова «Плаха»)
- Агранович С. З., Стефанский Е. Е. Миф в слове: продолжение жизни (Очерки по мифолингвистике): Монография. Самара: Самар. гуманитар. акад., 2003. 168 с.
- Алефиренко Н. Ф. Методологические основания исследования проблемы вербализации концепта // Вестник ВГУ Серия Гуманитарные науки. 2004. № 2. С. 60-66.
- Антология концептов / Под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. Волгоград: Парадигма, 2005. Т. 1. 352 с.
- Апресян Ю. Д. Избранные труды, том II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М.: Школа "Языки русской культуры", 1995. 767 с.
- Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр. М.: Языки русской культуры, 1999. 896 с.
- Аскольдов С. А. Концепт и слово // Русская словесность: От теории словесности к структуре текста: Антология / Под общ. ред. В. П. Нерознака. М.: Academia, 1997. С. 267-279.
- Вежбицкая А. Понимание культур через посредство слов / Пер. с англ. А. Д. Шмелева. М.: Языки славянских культур, 2001. 288 с.
- Вежбицкая А. Семантические универсалии и базисные концепты. М.: Языки славянских культур, 2001. 568 с.
- Воркачев С. Г. Постулаты лингвоконцептологии // Антология концептов / Под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. Волгоград: Парадигма, 2005. Т. 1. С. 10-13.
- Добровольский Д. О. Образная составляющая в семантике идиом // Вопросы языкознания. 1996. № 1. С. 71-93.
- Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. 477 с.
- Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. М.: Едиториал УРСС, 2004. 256 с.
- Лаэртский Д. О жизни, учениях, изречениях знаменитых философов. 2-е испр. изд. / Под общ. ред. А. Ф. Лосева; Пер. М. Л. Гаспарова. М.: Мысль, 1986. 571 с.
- Лихачев Д. С. Избранные труды по русской и мировой культуре. 2-е изд., перераб. и доп. / Сост. и науч. ред. А. С. Запесоцкий. СПб.: СПбГУП, 2015. 540 с.
- Рудакова А. В. Когнитология и когнитивная лингвистика. Воронеж: Истоки, 2004. 80 с.
- Чернейко Л. О. Лингво-философский анализ абстрактного имени. М.: Из-во МГУ, 1997. 349 с.