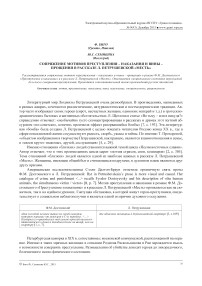Сопряжение мотивов преступления - наказания и вины - прощения в рассказе Л. Петрушевской «Месть»
Автор: Биго Франческо, Семикина Юлия Геннадьевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 9 (43), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается сопряжение мотивов преступления - наказания и вины - прощения в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и в рассказе Л. Петрушевской «Месть». Описывается эмоциональное состояние персонажей до и после совершения преступления. Проводится сопоставительный анализ произведений русских писателей.
Мотив, преступление, наказание, вина, искупление, эмоциональное, рациональное
Короткий адрес: https://sciup.org/14822425
IDR: 14822425
Текст научной статьи Сопряжение мотивов преступления - наказания и вины - прощения в рассказе Л. Петрушевской «Месть»
Литературный мир Людмилы Петрушевской очень разнообразен. В произведениях, написанных в разных жанрах, сочетаются реалистические, натуралистические и постмодернистские традиции. Автор часто изображает своих героев (сирот, несчастных женщин, одиноких матерей и т.д.) в гротескнодраматических бытовых и жизненных обстоятельствах. Е. Щеглова в статье «Во тьму – или в никуда?» справедливо отмечает: «необычайно густо сконцентрировавшая в рассказах и драмах этот жуткий абсурдизм «по-советски», конечно, произвела эффект разорвавшейся бомбы» [7, с. 193]. Эта литературная «бомба» была создана Л. Петрушевской с целью показать читателям Россию конца XX в., где в сфере повседневной жизни сосуществуют радость, скорбь, ужасы и тайны. По мнению Т. Прохоровой, «объектом изображения в творчестве Петрушевской, как правило, являются взаимоотношения в семье, в «своем круге» знакомых, друзей, сослуживцев» [4, с. 29].
Именно отношения «близких» людей становятся важной темой цикла «Песни восточных славян». Автор отмечает, что в этих произведениях цикла царит «поэзия страхов, снов, кошмаров» [2, с. 305]. Тема отношений «близких» людей является одной из наиболее важных в рассказе Л. Петрушевской «Месть». Женщины, имеющие общий быт и считающиеся подругами, в духовном плане являются друг другу врагами.
Американская исследовательница Сэлли Далтон-Браун отметила органичную связь прозы Ф.М. Достоевского и Л. Петрушевской: Byt in Petrushevskaia’s prose is more visual and casual. Her catalogue of crime and punishment <...> recalls Fyodor Dostoyevsky and his description of «the human animal», the simultaneous victim / victor» [8, p. 7]. Мотив преступления и наказания в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и в рассказе Л. Петрушевской «Месть» проявляется как на сюжетном, так и на идейном уровнях. Гнетущая обстановка, в которой живут герои-преступники, свидетельствует о социальном неблагополучии и является одной из причин духовного оскудения.
|
Ф.М. Достоевский |
Л. Петрушевская |
|
один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, <...> Каморка его приходилась под самою кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру [1, с. 7]. |
две одинокие женщины в двухкомнатной квартире [3, с.169]. |
Петербургская каморка в XIX в. сопоставима с московской коммуналкой, расположенной на окраине. Именно в таких мрачных жилищах в сознании Родиона Раскольникова и Раи зарождается мысль о возможности совершить преступление. Размышления об убийстве доводят героев до лихорадочного, болезненного психо-физического состояния.
|
Ф.М. Достоевский |
Л. Петрушевская |
|
Чувство бесконечного отвращения, начинавшее давить и мутить его сердце еще в то время, как он только шел к старухе, достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от тоски своей [Там же, с. 12]. |
но тогда, когда Зина стала ходить с уже большим животом, Рая ее возненавидела до потери сознания. Она просто заболела от ненависти [3, с. 170]. |
Человек нарушает нравственные нормы уже тогда, когда допускает в свое сознание мысль о возможности совершения преступления, в данном случае – убийства. Более того, Родион Раскольников и Рая тщательно готовились к совершению преднамеренного убийства. Так в обоих художественных произведениях появляется мотив «пробы».
|
Ф.М. Достоевский |
Л. Петрушевская |
|
Боже! – воскликнул он, – да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп… буду скользить в липкой, теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью… с топором… Господи, неужели? <...> Ведь еще вчера, вчера, когда я пошел делать эту… пробу [1, с. 51]. |
А Рая начала подготовку к убийству ребенка, и всё чаще Зина, <...> видела в кухне на полу стакан как бы с водой, или видела на табуретке горячий чайник с висящей набок ручкой [3, с.170]. |
Кульминационным моментом развития мотива преступления и наказания можно считать момент совершения убийства. Авторы делают акцент на жестокости преступления, совершенного каждым из героев.
|
Ф.М. Достоевский |
Л. Петрушевская |
|
Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально, опустил на голову обухом. <...>Удар пришелся в самое темя, чему способствовал ее малый рост. Она вскрикнула, но очень слабо, <...> Тут он изо всей силы ударил раз и другой, все обухом и все по темени. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь [1, с. 64]. |
Рая <...> надела резиновые перчатки, взяла из ванной хранившуюся там пачку каустической соды, развела ее в ведре и стала мыть полы в коридоре, причем плеснула раствор под дверь, где лежала девочка. Крик перешел в вопль. Рая вытерла полы в коридоре, все вымыла – ведро, щетку и перчатки, – оделась и ушла в поликлинику [3, с.171]. |
В романе Ф.М. Достоевского изображены все оттенки изменения психического и физического состояния Родиона Раскольникова после содеянного. Л. Петрушевская описывает только хладнокровные действия героини и не дает читателю возможности узнать о чувствах Раи. Психоэмоциональный контекст преступления восстанавливается читателями на основании деталей, встречающихся в тексте.
Раскольникову и Рае не чуждо любопытство (может быть, и боязнь). Оба героя проверяют, действительно ли их жертвы убиты. В произведении Л. Петрушевской есть деталь, отсылающая нас к произведению Ф.М. Достоевского. Рая использует топор, чтобы открыть квартиру Зои и убедиться в том, что девочка мертва. В романе «Преступление и наказание» топор является важной деталью (слово «топор» употребляется в романе более 60 раз).
|
Ф.М. Достоевский |
Л. Петрушевская |
|
Бросив ключи, и комод, он побежал назад, к телу, схватил топор и намахнулся еще раз над старухой, но не опустил. Сомнения не было, что она мертвая. Нагнувшись и рассматривая ее опять ближе, он увидел ясно, что череп был раздроблен и даже сворочен чуть-чуть на сторону. <...> Крови между тем натекла уже целая лужа [1, с. 64]. |
Рая взяла топор, вскрыла дверь и увидела, что в комнате пыльно, что на полу у кроватки застывшее пятно крови и широкий след к дверям. От потека каустической соды не осталось никакого следа [3, с.171]. |
Во многих рассказах Л. Петрушевской встречаются герои, подобные Рае (бедные одинокие женщины, пережившие много горя). Более того, она относится к тому же типу героев Ф.М. Достоевского, которых можно отнести к типу «униженных и оскорбленных».
Подобно Р. Раскольникову Рая хладнокровно совершает зверское преступление, которое трудно объяснить с позиции здравого разума. Героиней движет чувство ненависти к соседке и ее ребенку. Автор, показывая нам женщину-убийцу, делает акцент на разрушительной силе, которой она может обладать. Отсутствие опыта материнства, зависть заставляют героиню проявлять темные стороны личности. Важно отметить, что отсутствие материнского опыта, сознательное или подсознательное деструктивное начало также являются значимой характеристикой персонажа [5, с.97].
Родион Раскольников, в отличие от Раи, совершил идейное преступление (он пытался проверить состоятельность своей теории). Мотивы у этих персонажей разные, а результат – один и тот же: убийство (или попытка убийства) невинных жертв, способность преступить моральный закон. Впоследствии и Раскольников и Рая испытывали нравственные страдания от осознания содеянного.
Выход из «тьмы души» у героев разный. В духовном плане Раскольников искупил грехи исповедью и осознанием преступности своего поведения, а в социальном – отбыванием наказания на каторге. Соня Мармеладова является в романе антиподом Раскольникова. Она – пример кротости, сострадания и христианского смирения. Ей свойственны такие качества, как жертвенность, всепрощение. Она осознает собственную греховность, поэтому не осуждает Раскольникова, а мучительно сострадает ему и убеждает его смириться и искупить вину перед Богом и перед людьми. Соня помогает Родиону понять важную мысль: он понял руку на человека, как на создание Божие, он не просто совершил убийство, посягнул на человека в себе, нарушил заповеди Божие. По мнению Ф.М. Достоевского мир можно спасти единением людей во Христе. Для автора важно деятельное сострадание Сони, ее подвижничество (она стремится духовно и физически спасти заблудших).
В рассказе Л. Петрушевской проблема преступления и наказания решена иначе. Рая, очевидно терзаемая муками совести, тяжело заболела и стала инвалидом. Она была не в силах терпеть физические и духовные страдания, поэтому решилась на самоубийство, как на возможное средство искупления грехов. Зина, ставшая жертвой преступных действий Раи, заботилась о больной подруге, кормила Раю с рук. В итоге преступница Рая, выпив смертельную дозу таблеток, слушает признание жертвы Зины, которая то ли решила облегчить страдания подруги, то ли в полной мере реализовать план своей мести. Последние слова Зины свидетельствуют о том, что обе женщины совершили мнимое убийство: «Так что ты не виновата, ты ни в чем не виновата, никто бы этого не доказал. Но и я не виновата. Мы в расчете» [3, с.172].
С мотивом преступления и наказания сопрягается мотив вины и прощения. Родион Раскольников отчасти искупил свою вину через покаяние. Он пережил духовные и нравственные страдания, поэтому у него есть возможность духовного воскрешения. В рассказе Л. Петрушевской читатель может только догадываться о Раиных муках совести исходя из ее физического состояния. Рая не исповедуется перед Зиной, не признает свою вину. Ее последняя эмоциональная реакция на слова Зины позволяет читателю понять, что женщина, действительно, испытывала духовные страдания: «И тут она увидела, что на мертвом лице медленно проступает улыбка счастья» [Там же].
В обоих произведениях авторы оставляют своих героев в сложной ситуации: мы не знаем, использует ли Родион Раскольников дарованный ему шанс на духовное воскресенье, вернется ли он к полноценной жизни. В еще более удручающем положении оказалась Зина: защитила своего ребенка и отомстила обидчице, но ведь она, хоть и косвенно, стала убийцей. У Зины, в отличие от Раи, есть опыт материнства, ей должно быть присуще женское начало, ассоциирующееся с гендерным стереотипом матери и включающим в себя такие позитивные понятия, как «дающая жизнь», «любовь», «нежность», «забота», «мораль», «духовность» [6, с. 122]. Однако она, подобно Рае, живет разрушительной эмоцией, об этом свидетельствуют слова, обращенные к умирающей подруге. Мы не знаем, как будет Зина искупать свою вину, ведь в ней нет прощения, очищающего душу от греха. Возможно, именно эту мысль Л. Петрушевская акцентировала в названии рассказа.
Список литературы Сопряжение мотивов преступления - наказания и вины - прощения в рассказе Л. Петрушевской «Месть»
- Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. М., 1970.
- Петрушевская Л. Девятый том. М., 2004.
- Петрушевская Л. Собр. соч. в 5-и томах. М., 1996. Т. 2.
- Прохорова Т.Г. Мистическая реальность в прозе Л. Петрушевской//Русская словесность. 2007. № 7. С. 29-34.
- Семикина Ю.Г. Тема материнства в «женской» прозе (на материале произведений Л. Петрушевской, Л. Улицкой, И. Полянской, О. Славниковой, М. Арбатовой)//Гуманитарные исследования. 2010. № 2. С. 91-97.
- Семикина Ю.Г. Проблема реализации гендерных стереотипов в художественных произведениях авторов-женщин конца XX -начала XXI в.//Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2012. № 6 (70). С. 122-125.
- Щеглова Е. Во тьму -или в никуда?//Нева. 1995. № 8. С.193-197.
- Sally Dalton-Brown, Voices from the Void: The Genres of Liudmila Petrushevskaia, New York, Berghahn Books, 2001.