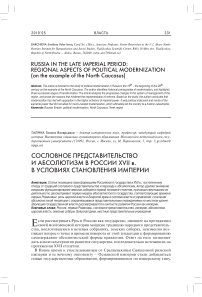Сословное представительство и абсолютизм в России XVII в. в условиях становления империи
Автор: Талина Галина Валерьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 5, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена трансформациям Российского государства в XVII в., постепенному отходу от традиций сословного представительства и переходу к абсолютизму. Автор уделяет внимание вопросам функционирования земских соборов в первой половине столетия, причинам свертывания их деятельности; рассматривает первую модель абсолютистского государства, соответствующую времени первых Романовых; роль царской власти и Боярской думы в системе власти и управления; сочетание абсолютистской тенденции с сохраняющимися представительными учреждениями на местном уровне. Эволюция государственной власти рассматривается в контексте развития России как империи.
Россия, первые романовы, сословное представительство, империя, абсолютизм, царская власть, земские соборы, боярская дума, местные представительные учреждения
Короткий адрес: https://sciup.org/170171016
IDR: 170171016 | DOI: 10.31171/vlast.v27i5.6748
Текст научной статьи Сословное представительство и абсолютизм в России XVII в. в условиях становления империи
Е сли рассматривать Русь и Россию как государство, имевшее на протяжении своей многовековой истории мощную традицию народного представительства, воплотившуюся в вечевых собраниях, земских соборах, неизменно возникает вопрос о точке и времени поворота от этой тенденции к формированию самодержавно-абсолютистской формы правления. Ответ на него позволяет дать анализ альтернатив развития государства, последовательно исчезавших на протяжении XVII столетия.
В Новое время к унаследованным от Средневековья Священной римской империи и ее вечному оппоненту – Османской империи стали добавляться новые государственные образования, формировавшиеся по имперскому типу, такие как Россия. От более ранних империй ее отличал существенный фактор – территории, вновь присоединяемые к центру, в отличие от европейских, не имели схожий уровень развития. Каждая из новых территорий имела свои органы самоуправления, вполне соответствовавшие «дороссийскому» периоду, но в условиях вхождения в более мощное и развитое государство не вполне готовые к решению задач единой, централизованной России.
В XVI–XVII вв. европейские государства вступили на путь абсолютизма. Вторая половина XVI столетия существенно приблизила Россию к общеевропейской динамике развития монархической власти. Иван IV считал себя самодержцем, а его сын Федор Иванович именовал себя так в официальных документах. Равнозначность самодержавия и абсолютизма в отечественной традиции – предмет давних дискуссий. Неограниченная власть монарха, на наш взгляд, не тождественна государственному аппарату абсолютистской монархии с иерархической системой центральных и местных органов власти, регулярной армией, профессиональным чиновничеством – бюрократией, унифицированной системой налогообложения, полицией и целым рядом иных признаков, характеризующих не только монарха, но и весь государственный механизм. Между тем становление неограниченной власти монарха – важнейшее условие для дальнейшей трансформации самодержавия в абсолютизм.
Процесс трансформации самодержавной власти последних Рюриковичей в абсолютную монархию был прерван Смутой конца XVI – начала XVII в. Смута же, помимо политических (опричнина) и социально-экономических (раскол общества при становлении крепостного права) причин, во многом была порождена прекращением правящей династии. Формальный акт избрания на царство Бориса Годунова и Василия Шуйского земскими соборами (или их подобием), с одной стороны, усилили роль сословного представительства, с другой – существенно ослабили роль легитимного монархического начала. Ни одному ни другому правителю России не удалось стать основоположником новой династии.
Ослабление центральной власти в России стало значимым условием интервенции Швеции и Речи Посполитой. Противники усиления власти польского короля Сигизмунда III – участники восстания шляхты (Сандомирского рокоша) способствовали появлению в России Лжедмитрия II. В июле 1610 г. Василий Шуйский был свергнут с царского престола. Власть в России перешла к Семибоярщине во главе с князем Ф.И. Мстиславским. Москва в это время была окружена войсками польского коронного гетмана С. Жолкевского и отрядами Лжедмитрия II. Стала воплощаться идея призвания на русский престол польского королевича Владислава, а 27 августа 1610 г. Москва присягнула ему на верность [Ананьев 2005: 37-38].
Силами, вступившими в борьбу за освобождение России, консолидирующими и направляющими общество, выступили РПЦ, Первое и Второе земские ополчения. Во главе Первого ополчения встал воевода П. Ляпунов, князь Д. Трубецкой и атаман И. Заруцкий. На освобожденной от интервентов территории в апреле 1611 г. был сформирован новый орган власти – Совет всей земли. Его функционал изначально не был строго определен, что приводило к самовольству и произволу различных командиров внутри первого ополчения. Только 30 июня 1611 г. был принят «Приговор Совета всей земли»1. Согласно документу, лидеры первого ополчения стали временным земским правительством; в ополчении стали действовать Разрядный, Земский, Поместный и другие приказы (органы центрального управления России в XVI – начале XVIII вв.);
все годные к службе воеводы-дворяне, атаманы и казаки, занимавшие должности глав местного управления городов, дворцовых сел, черных (принадлежавших государству) волостей заменялись «дворянами добрыми». Однако деятельность и правящего триумвирата, и приказов ставилась в «Приговоре» под контроль Совета всей земли [Кузьмин, Волков 2012: 123-141]. Попытки Ляпунова пригласить на русский престол шведских принцев, гибель Ляпунова и усиление Заруцкого привели к падению авторитета Первого ополчения. Начался новый этап освободительного движения, связанный с именами К. Минина и Д. Пожарского – лидеров Второго ополчения. В феврале 1612 г. в ополчении также был создан свой Совет всей земли, а вскоре ко Второму ополчению присоединились остатки Первого.
Усиление представительного начала в Смуту, однако же, не означало стремления уйти от монархической формы правления. Выход из кризиса мыслился через созыв земского собора и избрание на престол нового государя. Земский собор 1613 г. отверг идею приглашения на русский трон польского или шведского принцев. Царем, как известно, был избран Михаил Федорович Романов. Новая династия в правление Михаила Федоровича и Алексея Михайловича попыталась доказать свое родство с Рюриковичами; Романовы мыслили себя не новой династией, а законными продолжателями ранее существовавшей, государями, реконструировавшими ее легитимную власть.
Восстановление пошатнувшегося престижа царской власти требовало времени и силы, способной компенсировать временные недостатки монархии. Таким органом стали земские соборы. С 1613 по 1622 г. они заседали практически непрерывно, способствовали описанию земель для восстановления налогообложения, возвращению крестьян, созданию Сыскного приказа – органа для обжалования злоупотреблений чиновников, реформированию местной администрации путем подавления казачьей анархии. После возвращения в страну из польского плена отца царя Михаила патриарха Филарета и создания двоевластного правления деятельность земских соборов прервалась на целое десятилетие, но затем была вновь восстановлена. В первой половине XVII в. постепенно отказались от практики выборов депутатов на каждый земский собор. Сам процесс избрания требовал много времени, а проблемы России требовали незамедлительного решения. Сформировалась практика «долгих» соборов, при которой выборные представители провинциальных городов призывались к Москве и проживали в столице по 3 года, постоянно находясь в распоряжении царской власти. К «долгим» относят соборы 1613–1615 гг.; 1616–1618 гг.; 1619–1621 гг.; 1636–1637–1639–1642 гг. [Морова 2008].
Ставился вопрос и о возможности превращения земского собора в постоянно действующий государственный орган. Желание изменить систему наиболее остро возникало в годины лихолетий. Так, после проигранной полякам Смоленской войны 1632–1634 гг. сын дорогобужского дворянина московский дворянин стряпчий Иван Бутурлин подал свои предложения («сказки») послам на польский съезд Ф.И. Шереметеву и А.М. Львову, а затем в Разрядный приказ. Бутурлин высказывался против «худородных» бояр, рвущихся к власти в корыстных целях, против бюрократизации государственного аппарата, за создание постоянного представительного учреждения, все депутаты которого, в т.ч. люди московского чина, должны выбираться на 1 год или срок по усмотрению избирателей и в котором среднее московское дворянство, «старослужи лые» люди, станут противовесом московской приказной бюрократии1.
На практике постоянно действующим учреждением земские соборы так и не стали. Органы высшей, центральной и местной власти – царь, Боярская дума, приказы, воеводы и съезжие избы, губные и земские избы – постепенно вступили в постоянное, хорошо отлаженное взаимодействие друг с другом. Новый механизм, разрастаясь, вытеснил земские соборы. Собор 1653 г. стал последним полнокуриальным, а после него правительство перешло к совещаниям с сословными комиссиями.
Во второй половине XVII в. начались трансформации в системе высшей власти. Боярская дума теперь рассматривалась как учреждение, действующее под эгидой царя, не имевшее права самостоятельно принимать постановления, имеющие силу закона. Сам закон оформлялся как царскими указами с боярским приговором, так и именными царскими указами. Хотя первые соответствовали важнейшим решениям в государстве, в т.ч. по вопросам землевладения, число вторых существенно увеличилось. При Алексее Михайловиче официальный статус приобрела Ближняя дума. Чины ближних бояр и окольничих жаловались государем лицам, уже имевшим аналогичные чины в Боярской думе. Другими словами, Ближняя дума заняла позиции в государственном аппарате над Боярской. Формулировка «бояре приговорили» соответствовала решению обеих дум, что на практике означало возможность государя прибегнуть к Ближней думе (меньшей по численности, более покладистой) в обход Боярской думы. Трансформировалась роль комиссий Боярской думы – временных образований, создаваемых для решения конкретного вопроса. Комиссии, рассматривавшие дела по местническим искам, уступили свое место рассмотрению непосредственно царем выписок из дел Разрядного приказа. Комиссия на Москве, создаваемая для координации деятельности государственных учреждений во время государевых походов, была поставлена под царский контроль (формально при отсутствии государя она подчинялась наследнику престола и царице) [Талина 2005: 61-114].
При царе Федоре Алексеевиче на основе Комиссии на Москве была создана Расправная палата, получившая функционал предварительного обсуждения дел, выносимых на решение царя с Боярской думой, что позволяло государю заранее снять наиболее спорные вопросы. При Федоре была предпринята попытка трансформировать Боярскую думу в постоянное законосовещательное учреждение. «Проект устава о служебном старшинстве по 34 степеням» ограничивал число думских заседателей, наделял их наместническими степенями, выводил из состава Боярской думы послов и воевод1. На практике осуществить проект не удалось.
При царях Алексее и Федоре наладилась практика докладов царю руководителей приказов, составлялись специальные расписания, отводившие конкретные дни для докладов судей конкретных приказов. Состав приказов неизменным не оставался: одни упраздняли, другие создавались для решения новых вопросов. В XVII в. их численность колебалась от 39 до 45. Число приказных дьяков (приказной бюрократии высшего уровня) неуклонно возрастало. Если на протяжении царствования Михаила Федоровича их было около 70, при Алексее Михайловиче насчитывалось до 124 дьяков, при Федоре Алексеевиче и в период регентства Софьи – до 178 [Богоявленский 1937: 228-229]. При царе Алексее Михайловиче была создана царская канцелярия – Тайный приказ, формально руководимый тайным дьяком, реально же возглавлявшийся царем. Приказ отправлял своих служащих со всеми посольствами и воеводами, доно- сил государю об их действиях, что позволяло перепроверять отписки послов и воевод. Документы приказа носят следы многочисленных собственноручных правок Алексея Михайловича. При докладе начальников приказов на заседаниях царя с Боярской думой по сложным и спорным делам царь практиковал передачу дел от приказов, ранее ими занимавшихся, Тайному приказу. В середине XVII в. лица, прошедшие школу Тайного приказа, были поставлены во главе других важнейших приказов, но жалованье продолжали получать в приказе Тайных дел [Талина 2005: 120-125]. При царе Федоре приказы, относящиеся к одной отрасли, стали концентрироваться под властью одного главы. Например, военные приказы в период проведения военно-окружной реформы возглавил В.В. Голицын.
Во второй половине XVII в. местное управление было представлено назначаемыми царем воеводами и выбираемыми на местах губными и земскими избами. Как выборный, так и назначаемый элемент по своим каналам сносился и взаимодействовал с центральными приказами, в свою очередь постоянно выходившими на царя. Сравнение отписок воевод и старост позволяло центру реально оценить ситуацию на местах. Активный процесс колонизации, присоединение к России новых территорий ставил вопрос об их постепенной адаптации к общероссийской управленческой традиции. Для территорий, вошедших в состав государства до XVII в. и близких по уровню развития центру, главным фактором их вовлечения в общероссийское пространство для данного периода была система налогообложения. Например, в Казанском крае ясак трактовался как налог с земли и определялся в соответствии с размерами земельных владений. Это вполне соответствовало системе подворного налогообложения, постепенно установившейся в царствования Алексея и Федора [Дмитриев 1956]. На территориях с разнородным и отличным от общероссийского уровнем развития, таких как Сибирь, переход от первой ко второй половине XVII в. был связан с переходом от попыток власти взаимодействовать с местными князьками к усилению роли воевод и налаживанию взаимодействия с мирским самоуправлением тех, кто в результате колонизации переселился из центра и принес с собой традиционную для России систему самоуправления [Шаходанова 2000].
Выстраивание управленческой вертикали, являясь одним из основных признаков абсолютистского государства, создавало основу для усиления монархического начала, с полным правом трактовавшего себя как самодержавную монархию. Что же касается народного/сословного представительства, то неоднородность развития российских регионов в условиях становления империи привели к тому, что «земля» и «власть», когда-то равнозначные в Древнерусском государстве, «центр», позиционировавшийся как сочетание княжеской и вечевой организации, постепенно концентрировались на разных уровнях. Выборное «самоуправление» из центрального преобразовывалось в местное, но включалось в общероссийскую властную вертикаль.
Список литературы Сословное представительство и абсолютизм в России XVII в. в условиях становления империи
- Ананьев В. 2005. Семибоярщина. - Родина. № 11. С. 35-40
- Богоявленский С.К. 1937. Приказные дьяки XVII века. - Исторические записки. Т. 1. М.-Л.: Издательство Академии наук СССР. С. 220-239
- Дмитриев В. Д. 1956. О ясачном обложении в Среднем Поволжье. - Вопросы истории. № 12, декабрь. C. 107-115
- Кузьмин А.Г., Волков В.А. 2012. Смутное время. М.: Алгоритм. 349 с
- Морова О.В. 2008. Роль Земских соборов в управлении Московским государством при Михаиле Федоровиче: дис. … к.и.н. М. 233 с
- Талина Г.В. 2005. Всея Великия и Малыя и белые России самодержавие. Очерки абсолютизирующейся монархии III четверти XVII века. М.: ГНО Издательство "Прометей" МПГУ. 376 с
- Шаходанова О.Ю. 2000. Центральные и местные органы управления Западной Сибирью в конце XVI - начале XVIII века: дис. … к.и.н. Тюмень. 190 с