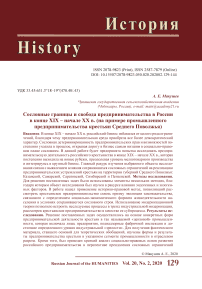Сословные границы и свобода предпринимательства в России в конце XIX - начале XX в. (на примере промышленного предпринимательства крестьян Среднего Поволжья)
Автор: Макушев Андрей Евгеньевич
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История
Статья в выпуске: 2 (50), 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение. В конце XIX - начале XX в. российский бизнес избавился от целого ряда ограничений, благодаря чему предпринимательская среда приобрела все более демократический характер. Сословная детерминированность предпринимательских прав и возможностей постепенно уходила в прошлое, открывая дорогу в бизнес самым низшим в социально-правовом плане сословиям. В данной работе будет предпринята попытка исследовать предпринимательскую деятельность российского крестьянства в конце XIX - начале XX в., которая постепенно выходила на новые рубежи, преодолевая уровень мелкотоварного производства и интегрируясь в крупный бизнес. Главный ракурс изучения выбранного объекта исследования связан с выявлением влияния сохранявшихся сословных ограничений на реализацию предпринимательских устремлений крестьян на территории губерний Среднего Поволжья: Казанской, Самарской, Саратовской, Симбирской и Пензенской. Методы исследования. Для решения поставленных задач были использованы элементы нескольких методик, благодаря которым объект исследования был изучен в ракурсе влияния эндогенных и экзогенных факторов. В работе нашел применение историко-правовой метод, позволивший рассмотреть крестьянское предпринимательство сквозь призму эволюции законодательства, связанного с определением социально-экономического формата жизнедеятельности населения в условиях сохранявшегося сословного строя. Использование модернизационной теории позволило встроить исследуемые процессы в тренд индустриальной модернизации, рассмотрев крестьянское предпринимательство в качестве ее субпроцесса. Результаты исследования. Решение поставленных задач осуществлялось на основе конкретных форм предпринимательской деятельности крестьян в так называемой «цензовой» промышленности, которая включала лишь предприятия, поднадзорные фабричной инспекции и достигшие определенного уровня индустриальной «зрелости». Для получения фактического материала, ставшего основой для теоретических обобщений, изучены формы и результаты предпринимательства крестьян в указанном сегменте промышленности в отраслевом разрезе. Кроме того, был проведен краткий анализ социально-правовых основ развития российского предпринимательства в перспективе преодоления сословных ограничений крестьян в реализации их коммерческо-деловых устремлений. Обсуждение и заключение. Приведенные примеры убедительно показывают, что крестьянство практически на равных с другими сословиями участвовало в промышленном производстве, что позволяет говорить о переходе процесса становления свободы предпринимательства в России в начале XX в. не только в плоскость правовых деклараций («де-юре»), но и в плоскость их практической реализации («де-факто»). Анализ социального состава промышленников Среднего Поволжья в конце XIX - начале XX в., где крестьянство играло уже более весомую роль, показывает, что деловой успех уже в гораздо меньшей степени был связан с сословной привилегированностью. Добиваясь весьма существенных результатов в промышленном бизнесе, представители сельского сословия уже не проявляли столь решительных устремлений в деле повышения своего социального статуса. Процесс стирания сословно-правовых различий в бизнесе косвенно подтверждает тот факт, что промышленная статистика начала XX в. все чаще и чаще игнорировала фактор сословной принадлежности владельцев промышленных предприятий.
Предпринимательство, промышленность, крестьянство, сословия, индустриальная модернизация, среднее поволжье
Короткий адрес: https://sciup.org/147218388
IDR: 147218388 | УДК: 33.45:631.3“18-19”(470.40/.43) | DOI: 10.15507/2078-9823.50.020.202002.129-144
Текст научной статьи Сословные границы и свобода предпринимательства в России в конце XIX - начале XX в. (на примере промышленного предпринимательства крестьян Среднего Поволжья)
Российская экономика в конце XIX – начале XX в. вступила в новую фазу развития. Ее характеризовало широкомасштабное развертывание процессов раннеиндустриальной модернизации, движущей силой которой было частное предпринимательство. В этот период российский бизнес избавляется от целого ряда ограничений, в результате чего предпринимательская среда приобретает все более демократический характер. Сословная детерминированность предпринимательских прав и возможностей постепенно уходила в прошлое, открывая дорогу в бизнес самым низшим в социально-правовом плане сословиям. Однако путь к свободе предпринимательства в России был сложным и тернистым.
В данной работе будет предпринята попытка исследовать предпринимательскую деятельность российского крестьянства в конце XIX – начале XX в., которая постепенно выходила на новые рубежи, преодолевая уровень мелкотоварного производства и интегрируясь в крупный бизнес. Главный ракурс изучения выбранного объекта исследования связан с выявлением влияния сохранявшихся сословных ограничений на реализацию предпринимательских устремлений крестьян на территории губерний Среднего Поволжья: Казанской, Самарской, Саратовской, Симбирской и Пензенской.
Методы исследования
Для решения поставленных задач были использованы элементы нескольких методик, благодаря которым объект исследования был изучен в ракурсе влияния эндогенных и экзогенных факторов. В работе нашел применение историко-правовой метод, позволивший рассмотреть крестьянское предпринимательство сквозь призму эволюции законодательства, связанного с определением социально-экономического формата жизнедеятельности населения в условиях сохранявшегося сословного строя. Использование модернизационной теории позволило встроить исследуемые процессы в тренд индустриальной модернизации, рассмотрев крестьянское предпринимательство в качестве ее субпроцесса.
Результаты исследования
Решение поставленных задач осуществлялось на основе конкретных форм предпринимательской деятельности крестьян в так называемой «цензовой» промышленности, которая включала лишь предприятия, поднадзорные фабричной инспекции и достигшие определенного уровня индустриальной «зрелости». Для получения фактического материала, ставшего основой для теоретических обобщений, изучены формы и результаты предпринимательства крестьян в указанном сегменте промышленности в отраслевом разрезе. Кроме того, был проведен краткий анализ социально-правовых основ развития российского предпринимательства в перспективе преодоления сословных ограничений крестьян в реализации их коммерческо-деловых устремлений.
Обсуждение
Нивелирование так называемого «фактора сословности» в предпринимательской деятельности российского крестьянства значительным образом было связано с изменением правового пространства. При этом, формируя и охраняя сословную структуру общества, государство периодически устанавливало своего рода исключения из правил, позволявшие реализовывать предпринимательские устремления представителям низших сословий. Именно таким образом Петр I стремился привлечь частные капиталы в промышленность, разрешив в 1721 г. лицам недворянского звания покупать крепостных к своим заводам, положив начало посессионной форме организации труда. Причем этим правом воспользовались не только купцы, но и «капиталистые» крестьяне, для которых данная мера являлась едва ли не единственным способом обеспечить свои мануфактуры рабочими руками.
Процесс рамочного расширения предпринимательских возможностей крестьян в обход сословных ограничений периодически инициировался и позже. В частности, в конце XVIII – первой половине XIX в. правительство предоставляло крестьянам предпринимательские права при условии приобретения «купеческих свидетельств», но без получения сословных прав: «Государственным, удельным и помещичьим крестьянам дозволяется производить торговлю и промышленность, купечеству предоставленные, а также заниматься разными торгами, промыслами и ремеслами, присвоенными мещанам и посадским, но не иначе, как со взятием особых свидетельств и с заплатою пошлины, соответственно обширности торга или промысла»1. Например, в соответствии с гильдейской реформой Е. Ф. Канкрина 1824 г. свидетельства 3-го рода («без личных преимуществ») должны были покупать крестьяне, владевшие промышленными предприятиями с числом рабочих до 32 чел. Если же численность наемных рабочих не превышала 16 чел., то приобреталось свидетельство 4-го рода, что соответствовало правам торгующих мещан [1, с. 139].
Другим вектором движения к свободе предпринимательства являлся процесс изменения социально-правового положения российского купечества, который постепенно приводил к разрушению границ его «исключительности» в предпринимательской деятельности. Наступление на «заповедные» предпринимательские права купеческого сословия началось в начале 1860-х гг. В частности, существенный шаг в сторону ослабления «сословного иммунитета» купеческого сословия был сделан в 1863 г. Упразднение третьей гильдии косвенно было связано с «открытием» сословия и предоставлением гораздо больших возмож- ностей вступления в него фактически для всех слоев населения. Еще одним ударом по «границам» купеческого сословия стала военная реформа. В 1874 г. купечество фактически рассталось с воинским «иммунитетом», предоставлявшим лицам купеческого сословия право освобождения от рекрутской повинности путем уплаты определенного денежного взноса. После того как указанная привилегия была отменена, выгод от «гильдейского статуса» стало еще меньше [4, с. 99].
Аналогичные последствия имели изменения в фискальном и торгово-промышленном законодательстве. В 1863 г. было введено положение «О пошлинах за право торговли и других промыслов», принципиально изменившее статус купечества как сословия. С формально-юридической точки зрения все население было уравнено в праве осуществлять предпринимательскую деятельность, и это не предполагало необходимости вступления в купеческое сословие. И хотя право ведения бизнеса по-прежнему было привязано к необходимости приобретения купеческих свидетельств на осуществление торгово-промышленного предпринимательства, последнее становилось свободным для всех желающих, располагавших необходимым капиталом для коммерческого использования. Это практиковалось и ранее, но было сопряжено с необходимостью преодоления целого ряда других ограничений.
Послабления коснулись и размеров платежей за получение такого рода «лицензии» на ведение бизнеса, которые уменьшились более чем в 2 раза. Больше возможностей получили иностранцы, предпринимательские права которых были фактически уравнены с российскими подданными. Налоговый режим для предпринимателей (особенно для мелких) был существенно снижен, а лица, занимавшиеся промыслово-ремесленной деятельностью, были фактически освобождены от налоговых платежей2.
Окончательное уничтожение сословного принципа в предпринимательской деятельности связано с реформой промыслового обложения 1898 г. Она упразднила действующее до этого времени правило, по которому владельцы промышленных предприятий, на которых численность наемных рабочих превышала 16 чел., были обязаны ежегодно приобретать не только промысловые свидетельства, но и гильдейские документы. С этого времени купеческий статус окончательно был отделен от права на предпринимательскую деятельность, которая предоставлялась всем желающим независимо от сословной принадлежности. При этом получение сословно-гильдейского свидетельства не предоставляло предпринимательские права, для чего было необходимо дополнительно приобретать промысловые свидетельства.
Тем не менее в полной мере лишить купечество корпоративных привилегий в предпринимательской деятельности власти не решились. Была сохранена необходимость приобретать гильдейские свидетельства (т. е. фактически вступать в купеческое сословие) для того, чтобы получать права на владение торговыми, промышленными или пароходными предприятиями высших разрядов3.
Конечно, сохранялся некоторый «снобизм» по отношению к крестьянам со стороны более именитых и знатных «коллег по цеху», находившихся на более высоких ступенях социальной иерархии. Но и этот социальный пережиток феодального общества постепенно начинал отмирать по мере того, как крестьяне на деле доказывали способности достигать делового успеха и фактически на равных участвовать в бизнесе. Это доказывает тот факт, что в предпринимательской практике изучаемого периода мы находим немало случаев успешного бизнес-партнерства крестьян с представителями привилегированных сословий: купцами, почетными гражданами и дворянами. По подсчетам И. Н. Литвиновой, в Саратовской губернии в 1914 г. крестьяне принимали участие в работе 24 сословно смешанных или коллективных предприятий [4, с. 164–165].
В целом в конце XIX – начале XX в. постепенно снижались масштабы рекрутирования в «третье сословие». Отчасти это было обусловлено и тем, что обладание сословными правами для купцов становилось дорогим удовольствием. В отличие от других сословий на купечество не распространялось правило наследования. Сословная принадлежность должна была постоянно подтверждаться уплатой определенного денежного ценза, размеры которого возрастали. С 1898 г. он устанавливался в следующем размере: за первую гильдию – 50 руб. в год, за вторую – 20 руб. В 1906 г. стоимость годового «абонемента» купеческого сословного статуса повысилась до 75 и 30 руб. соответственно. Помимо этого, существовала практика так называемых местных сборов на «сословные купеческие и общественные надобности», осуществлявшихся купеческими обществами. Указанные «надобности» Министерство торговли и промышленности устанавливало в форме обязательных для членов купеческих обществ взносов «…на устройство и содержание коммерческих учебных заведений» и обязательных сборов с «…сословных купеческих свидетельств на устройство и содержание художественно-промышленных учебных заведений»4. Кроме того, предста- вители купеческого сословия делали взносы на земские и городские нужды.
В итоге в начале XX в. купеческая корпорация была представлена в основном «родовитым» купечеством, а сохранение сословного статуса выглядело больше как дань уважения семейной традиции, а не практическая потребность.
О размывании сословного начала в предпринимательской деятельности Среднего Поволжья говорит тенденция сокращения доли участия лиц купеческого сословия в промышленном бизнесе, наблюдавшаяся в последнее десятилетие XIX – начале XX в. По подсчетам С. В. Макрушиной, в Саратовской губернии в 1893 г. действовали 264 предприятия, принадлежавшие лицам купеческого сословия. В начале XX в. к таковым относились 83 предприятия, находившиеся в собственности частных лиц, и 50 предприятий, представлявшие торговые дома и товарищества [5, с. 131].
Одной из наиболее заметных тенденций социальной трансформации в предпринимательской среде в конце XIX – начале XX в., олицетворявшей наступление «эры свободного предпринимательства» в России, можно отметить более активное рекрутирование крестьян в бизнес-сообщество. Хотя в большинстве своем они занимали довольно скромные позиции, в ряде случаев достигаемый некоторыми представителями предпринимательский успех позволял им стать частью элиты делового мира российской провинции. В то же время ведение бизнеса для крестьян было затруднено целым рядом обстоятельств. Наибольшие трудности представляли сохранявшиеся социально-правовые ограничения, последствия отмены крепостного права, налагавшие на крестьян весьма обременительные экономические обязательства, ограничения мобильно- сти, сохранения общинного режима хозяйствования и др. Все это существенно осложняло процесс адаптации крестьян в бизнес-среде. С другой стороны, успешное преодоление всех препятствий и трудностей закаливало крестьян, формировало у них менталитет «предпринимателя-труженика».
По мере укрупнения своего бизнеса крестьяне все больше и больше дистанцировались от производственно-трудового процесса, сосредоточиваясь на организационно-управленческих функциях. Более того, по мере усложнения промышленного производства крестьяне и эти полномочия частично делегировали наемным управляющим и директорам. Именно таким образом поступили выходцы из самарского с. Балакова – крестьяне братья Мамины. Владея довольно крупными машиностроительными предприятиями с технически сложным процессом производства, они передали управленческие функции в руки опытных инженеров: И. Я. Кашинцева (завод Я. В. Мамина) и Э. Н. Гежелина (завод И. В. Мамина)5.
Наиболее привлекательными для реализации предпринимательских устремлений крестьян были сферы, не связанные с необходимостью серьезных капиталовложений. Прежде всего это торговля (преимущественно мелочная), а также сфера обслуживания. Их привлекательность для крестьян была также обусловлена практически отсутствием конкуренции. Купечество и дворянство не стремились занять эти ниши, предпочитая более прибыльные области деятельности.
Но и в промышленном предпринимательстве крестьяне постепенно начинали играть все более заметную роль. Причем область реализации их предпринимательских устремлений гораздо чаще выходила за рамки кустарно-промысловой деятельности. Все больше и больше промышленных предприятий крестьян попадали в число «подлежащих надзору фабричной инспекции», что предполагало их соответствие определенным параметрам и критериям, прежде всего численности наемных рабочих и наличия сложного оборудования. Сам факт отнесения крестьянских промышленных предприятий в число «поднадзорных» косвенно свидетельствовал о деловом успехе их владельцев.
Более активный выход крестьянского предпринимательства за границы мелкотоварного производства наблюдался в конце XIX – начале XX в. С этого времени наблюдалось увеличение масштабов предпринимательской деятельности, а также освоение представителями самого многочисленного российского сословия отраслей и производств, ранее фактически закрытых для них в силу разных обстоятельств. Во многом это было обусловлено новым витком научно-технической революции. Благодаря ей более доступными за счет удешевления становились паровые машины, появлялись более эффективные двигатели внутреннего сгорания (нефтяные, керосиновые, газовые), началось применение электродвигателей. Промышленные сводки конца XIX – начала XX в. свидетельствуют, что эти технические новшества для крестьянских предприятий становились вполне обычными. Все это делало крупный промышленный бизнес более доступным для крестьян, способствуя увеличению их удельного веса и усилению позиций в предпринимательском сообществе.
Кроме того, активизации предпринимательской деятельности крестьянства способствовал рост социальной мобильности сельского сословия, которое, несмотря на сохранявшиеся сословные ограничения, находило возможности для освоения городского экономического пространства. Все больше и больше крестьян предпочитали вести торгово-промышленный бизнес в городах, которые в процессе ускорившейся урбанизации развивались, становясь локомотивами экономического роста. По данным И. Н. Литвиновой, в 1914 г. в Саратове в числе владельцев и совладельцев торгово-промышленных фирм численность крестьян составила 108 чел. – 17 % от их общего числа [4, с. 164].
В отраслевом плане приоритеты промышленно-предпринимательской деятельности крестьян были связаны с обработкой сельскохозяйственной продукции. Во всех рассматриваемых губерниях Среднего Поволжья среди крестьян весьма распространенными областями предпринимательства были мукомольное и маслобойное дело, крупообдирное и крахмальное производство и др. При этом в конце XIX – начале XX в. в них наблюдался настоящий всплеск крестьянской активности. Благодаря технико-технологической модернизации производства наблюдалось его укрупнение, повышалась товарность. В частности, в Саратовской губернии в 1913 г. действовало более 600 мельниц, оснащенных паровыми или дизельными двигателями [5, с. 96]. Причем в числе собственников такого рода «высокотехнологичных» мельниц все больше становилось крестьян.
По данным опубликованного списка фабрик и заводов Российской империи за 1908 г., куда были включены только крупные предприятия6, на территории изучаемых губерний Среднего Поволжья крестьянам принадлежало 29 мукомольных мельниц: в Самарской губернии – 10, в Саратовской губернии – 8, в Пензенской – 5, в Симбирской – 4, в Казанской – 27. Как следует из указанного выше источника, на территории Среднего Поволжья в небольшом количестве крестьянам принадлежали просорушки, крупообдирные, маслобойные, крахмалопаточные, картофеле-терочные предприятия.
В конце XIX – начале XX в. крестьяне «вторглись» даже в отрасль, долгое время считавшуюся «заповедной» для благородного дворянского сословия, – винокурение. В частности, в 1908 г. в Пензенской губернии действовали два крестьянских (И. М. Петрушков и А. А. Письмеров) и одно крестьянско-мещанское (Д. И. Люблин и М. В. Ковалев) предприятия8. Крестьянин И. М. Петрушков был еще владельцем крахмально-паточного завода, оснащенного локомобилем, на котором в качестве наемных рабочих в 1908 г. трудились 35 чел.9
В Саратовской губернии крестьяне включались в хлопчатобумажное производство. В с. Севастьяновка Камышинского уезда действовало предприятие по изготовлению сарпинок крестьян братьев А. Б. и И. Б. Деккер, с числом рабочих 44 чел. и годовым производством 8 000 руб.10
В Пензенской губернии фамильным делом крестьянской семьи Лисововых стало пенькотрепальное производство. На двух заводах, располагавшихся в г. Саранске и с. Лунине Мокшанского уезда, в 1908 г. в общей сложности было выработано пеньки и пакли более чем на 75 000 руб. при численности наемных рабочих 87 чел.11
Довольно активно предпринимательские устремления крестьяне Среднего Поволжья реализовывали в деревообрабатывающей промышленности. В 1908 г. на территории Среднего Поволжья действовало 16 крестьянских лесопильных заводов: в Казанской губернии – 2, в Самарской – 3, в Симбирской – 5, в Пензенской – 2, в Саратовской – 412.
С деревообработкой было связано также изготовление спичек, которое в официальной статистике конца XIX – начала XX в. относилось к группе химических производств. Крестьянке Е. М. Перемыш-линой в г. Верхний Ломов Пензенской губернии принадлежала спичечная фабрика, годовое производство которой в 1908 г. составило 60 000 руб. На предприятии был установлен паровой двигатель мощностью
53 л. с., а численность рабочих достигала 250 чел.13
Еще более успешно вел дела пензенский крестьянин П. А. Казуров, владея довольно крупной паровой спичечной фабрикой в д. Макаровка Нижнеломовского уезда (основана в 1880 г.). В 1908–1914 гг. стоимость производства колебалась от 63 до 115 тыс. руб., а численность занятых рабочих – от 360 до 440 чел. Следует отметить, что в начале XX в. спичечная фабрика П. А. Казаурова была одной из крупных в губернии, уступая только предприятию купцов первой гильдии братьев М. С. и Ф. С. Камендровских14.
Крестьянские капиталы вкладывались в обработку минеральных веществ. В частности, крестьянин П. И. Богданов являлся владельцем Волжской стекольной фабрики, располагавшейся в Казанском уезде, на ст. Васильево Московско-Казанской железной дороги. В 1908 г. на фабрике производилась бутылочная посуда из зеленого и черного стекла и другие изделия. Стоимость годового производства составила 150 960 руб., а численность рабочих достигла 225 чел.15
Кирпичный завод основали крестьяне с. Царицына Казанского уезда В. Г. Шибанов и И. А. Егошин, производя продукции на 30 600 руб. силами 60 рабочих. В Казани крестьянин П. Н. Винокуров, владея аналогичным предприятием и нанимая 14 рабочих, вырабатывал кирпича на 3 600 руб. (данные за 1908 г.)16.
Были и другие области применения крестьянских капиталов, включая даже такие сложные с точки зрения технической организации производства отрасли, как металлообработка и машиностроение. По данным за 1890 г., в с. Жадовка Карсунско-го уезда Симбирской губернии крестьянка А. Ф. Кузьмина являлась собственницей чугунолитейного завода, выполнявшего отливку посуды и принадлежностей для мельниц 17.
В этой же губернии, в с. Промзине Алатырского уезда, в 1885 г. крестьянин Н. П. Растригин открыл ремонтно-механическую мастерскую по ремонту земледельческих машин и орудий труда. В начале XX в. на предприятии было налажено собственное литейное производство, что позволило изготавливать разного рода чугунные и медные детали и комплектующие для сельскохозяйственных машин и орудий, а также мельниц. В ассортименте производимой продукции появились также маслобойные прессы. Завод был оборудован нефтяным двигателем мощностью 30 л. с. Стоимость ремонтных работ и товаров составляла примерно 10 000 руб. в год, а численность занятых рабочих составляла около 20 чел. 18
В Казани крестьянин Г. И. Козлов открыл кузнечно-котельную мастерскую, в которой не только осуществлялся ремонт разного рода устройств и изделий из металла, но и производились железные лестничные решетки, навесы и др. В 1908 г. было нанято 19 рабочих, а годовое производство составило около 7 500 руб. Кроме того, были выполнены разного рода заказы на 380 руб. Завод был оснащен паровым двигателем мощностью 4 л. с.19
Наиболее активно крестьянское предпринимательство в металлообработке и машиностроении развернулось в Самарской губернии, особенно в первом десятилетии XX в. Если в 1890 г. в губернии действовало единственное крестьянское предприятие указанного профиля, располагавшееся в с. Балакове Николаевского уезда и принадлежавшее Ф. А. Блинову20, то по данным за 1908 г. мы уже находим шесть чугунно-медно-литейных, машиностроительных и ремонтно-механических предприятий, владельцами которых являлись крестьяне. В общей сложности они произвели продукции на 82 100 руб., а число занятых наемных рабочих составляло 170 чел. (таблица).
Эволюция промышленного предпринимательства крестьян происходила не только в количественном плане за счет повышения активности их рекрутирования в бизнес, но и в качественном, выражавшемся в его усложнении и освоении новых, технически более сложных производств. Весьма показательна в связи с этим траектория развития семейного дела крестьян Блиновых. В 1883 г. в с. Балакове Николаевского уезда был основан механический завод, владельцем которого был Ф. А. Блинов. Если первоначально завод изготавливал земледельческие орудия труда и «пожарные трубы» (ручные насосы),
Таблица
Крестьянское предпринимательство Самарской губернии в литейном, металлообрабатывающем, машиностроительном производствах и в сфере ремонтно-механических услуг в 1908 г.*
Table
Peasant entrepreneurship of the Samara province in foundry, metalworking, machine-building industries and in the field of mechanical repair services in 1908 *
К 1914 г. промышленное предприятие уже именовалось «нефтемоторной фабрикой», получив при этом весьма амбициозное название «Благословение». При этом масштабы производства к началу Первой мировой войны еще больше увеличились. Не располагая данными об объемах и стоимости производства, мы об этом можем вполне определенно говорить на основании существенно возросшей численности рабочих, которая к 1914 г. достигла 150 чел. 22
Стоит отметить, что с. Балаково было весьма благоприятным местом для крестьянского предпринимательства. В конце XIX – начале XX в. выдающихся предпринимательских успехов достигла еще одна крестьянская семья выходцев из этого села – Маминых. В 1898 г. один из ее представителей, Яков Васильевич, основал завод нефтяных двигателей. На протяжении последующих полутора десятков лет предприятие стремительно набирало обороты. В 1908 г. здесь было занято 55 чел., а к 1914 г. потребности в рабочей силе составляли уже более 150 чел. Стоимость производства за то же время возросла с 32 470 до 135 000 руб. в год23.
В той же отрасли и не менее успешно вел бизнес еще один представитель семьи, брат Якова Васильевича Иван. Если в 1908 г. его машиностроительным заводом было произведено продукции на 89 000 руб. при численности рабочих 85 чел., то в 1912 г.
эти показатели составили 300 000 руб. и 140 чел. соответственно24.
Братья весьма грамотно выстраивали маркетинговую политику. Для того чтобы избежать излишней конкуренции, они четко разграничили ассортимент вырабатываемых изделий. На заводе Я. В. Мамина изготавливались двигатели под запатентованным товарным знаком «Русский дизель», продвигаемым на международном уровне рядом российских компаний-производителей. Иной ассортимент выпускаемой продукции мы видим на заводе И. В. Мамина: газовые и керосиновые двигатели, а также детали и комплектующие для разного рода машин и заводского оборудо-вания25.
Продукция заводов братьев Маминых пользовалась хорошим спросом на рынке. По мнению Н. Л. Клейн, «маминские моторы», относительно дешевые и экономичные, положительно повлияли на развитие мелкого производства в Поволжье. Особенно широко они применялись на мелких мельницах и на малых речных судах. Заслугой братьев Маминых является также то, что они построили на своих заводах тракторы «Гном» и «Карлик» – одни из первых в стране [3, с. 175–176].
К 1912 г. братьями Мамиными была создана весьма обширная торговая сеть, включавшая склады в Москве, Самаре, Казани, Киеве, Одессе, Баку, а также торговое представительство в Омске, располагавшееся в Главной конторе сельскохозяйственных складов орудий и машин переселенческого управления26.
Следует отметить, что в списке фабрик и заводов Российской империи за 1908 г. Иван Васильевич указан уже как представитель мещанского сословия, в то время как Яков Васильевич сохранял крестьянский сословный статус. Такого рода сословный переход одного из братьев обусловлен тем, что в связи с бурным экономическим ростом Балаково получило статус городского поселения. Вряд ли такого рода шаг был продиктован стремлением получить какое-либо преимущество в реализации деловых устремлений. Видимо, это было продиктовано факторами социального плана: стремлением властей создать в бывшем селе городское сословие и желанием И. В. Мамина поддержать формируемую корпорацию мещан.
Как бы то ни было, на примере братьев Маминых мы видим, что достижение ими предпринимательских успехов уже не зависело от необходимости получения более высокого сословного статуса. В большей степени это было обусловлено факторами социокультурного плана. Необходимость интеграции в городскую среду, стремление к участию в разного рода обществах и объединениях, а также в культурной жизни продолжало сохранять сословный оттенок.
В предпринимательской практике начала XX в. мы обнаруживаем все больше примеров «сословного раскола» – межсословной интеграции в результате перехода отдельных участников фамильного бизнеса в другое сословие. Такого рода ситуация возникла в предпринимательской деятельности крестьянской семьи Голдобиных. В 1900 г. ее представителями при железнодо- рожной станции Бекетовская Царицынского уезда Саратовской губернии был основан лесопильный завод. Решающую роль в развитии семейного дела играли братья Георгий и Семен Савовичи, причем последний в сводках за 1908 г. числился уже купцом. Георгий же продолжал оставаться в крестьянском сословии, что никак не мешало им на равных принимать участие в фамильном бизнесе. Их предприятие было одним из передовых не только в Саратовской губернии, но и во всем Среднем Поволжье. Оно было оборудовано самым современным на тот момент электрическим двигателем мощностью 155 л. с. Нанимая около 150 рабочих, братья Голдобины выпускали продукцию (доски, лафеты, ящики и др.) на сумму около 550 тыс. руб. в год27.
Говоря о результативности предпринимательской деятельности крестьян, следует отметить, что наиболее успешно реализовывали предпринимательские устремления те из них, кто сочетал производственную и торговую деятельность. Наиболее доступным способом расширить возможности ведения бизнеса для крестьян стало учреждение торговых домов. В отличие от акционерных обществ, создание которых санкционировалось на правительственном уровне, основать торговый дом (как и товарищество на вере) можно было гораздо проще, пройдя процедуру регистрации на уровне городской управы. Этим и старались воспользоваться некоторые крестьяне, чаще всего в мукомольном производстве. Например, в Самарской губернии в 1908–1909 гг. действовали три торговых дома, учредителями которых были крестьяне: «Малюшкин Н. Л. и Ко» (паровая мукомольная мельница), «Перов З. Ф. и Зуев В. Н.» (мельница и крупо- рушка)28, «Соколов Я. Г. и Ко» (паро-водяная крупчато-мукомольная мельница). Они являлись высокопроизводительными, хорошо технически оснащенными предприятиями, имеющими хорошо налаженные рыночные связи. Представляя собой семейные объединения, они давали возможность всем участникам в равной степени осуществлять производственную деятельность и вести торговлю от лица фирмы.
Особенно успешной была деятельность торгового дома «Соколов Я. Г. и Ко». Оснащенная водяным и паровым двигателями общей мощностью 300 л. с. и привлекая 160 наемных рабочих, мукомольно-крупчатая мельница в 1908 г. дала продукцию на сумму 1 847 510 руб.29
Крестьянин И. А. Дворецкий основал в Саратове торговый дом, под вывеской которого действовала довольно крупная фабрика по производству ваты, оборудованная паровым двигателем на 50 л. с. В 1908 г. стоимость производства составила 213 000 руб., число наемных рабочих – 80 чел.30
В целом сравнение промышленных предприятий, принадлежавших частным предпринимателям из разных сословий, не выявило каких-либо серьезных различий в уровне организации производства и технической оснащенности у крестьян в сравнении с представителями более высоких по статусу сословий: дворян, почетных граждан, купцов. Все предприятия без исключения, в том числе крестьянские, были оснащены механическими двигателями (паровыми стационарными и локомобилями, нефтяными, керосиновыми, газовыми и даже электрическими). В начале XX в.
это было уже своего рода «обязательной нормой», которая позволяла получить необходимые конкурентные преимущества и давала возможность занять свою нишу на товарном рынке. Таким образом, российское крестьянство постепенно становилось актором раннеидустриальной модернизации, способствуя деловыми успехами структурным изменениям в российской экономике.
Заключение
Приведенные примеры убедительно показывают, что крестьянство практически на равных с другими сословиями участвовало в промышленном производстве, что позволяет говорить о переходе процесса становления свободы предпринимательства в России в начале XX в. не только в плоскость правовых деклараций («де-юре»), но и в плоскость их практической реализации («де-факто»). Главным ограничителем интеграции крестьян в предпринимательское сообщество были уже не сословно-правовые ограничения, а финансовые возможности. В российских реалиях развития сельского хозяйства России того времени перспективы первоначального накопления капитала для сельского сословия были весьма ограничены, а система кредитования еще не стала действенным инструментом поддержки бизнеса.
Следует также учитывать, что массовое рекрутирование крестьян в бизнес-сообщество было невозможно также по причине сохранявшегося аграрно-общинного менталитета сельских жителей, вырваться за рамки которого было довольно непросто. Влияя на хозяйственный этос, такого рода элементы традиционного уклада часто определяли специфику реализации пред- принимательской функции, замедляя процесс индустриально-рыночного созревания промышленного бизнеса крестьян.
Анализ социального состава промышленников Среднего Поволжья в конце XIX – начале XX в., где крестьянство играло уже более весомую роль, показывает, что деловой успех уже в гораздо меньшей степени был связан с сословной привилегированностью. Добиваясь весьма существенных результатов в промышленном бизнесе, представители сельского сословия уже не проявляли столь решительных устремлений в деле повышения социального статуса, наблюдаемых ранее. Стремление занять более высокое положение в социальной иерархии для крестьян было во многом обусловлено необходимостью получения максимума предпринимательских возможностей, который формально еще оставался связан с купеческим состоянием. В тех случаях, когда использование такого рода «социального лифта» не было связано с реализацией указанных задач, крестьяне предпочитали не менять социально-сословный статус.
Желание влиться в сословие с более высоким положением в социальной иерархии было в значительной степени обусловлено мотивами имиджевого характера. В некото- рых случаях крестьяне стремились в купечество из соображений престижа, так как в сознании российского общества, несмотря на наметившиеся в начале XIX в. процессы его демократизации, сохранялись весьма устойчивые штампы социального восприятия, носившие инерционный характер. В этом случае достигалась своего рода «глубина» интеграции успешных предпринимателей крестьянского сословия в состав бизнес-элиты, позволяя влиться в более статусную социокультурную среду.
Процесс стирания сословно-правовых различий в бизнесе косвенно подтверждает тот факт, что промышленная статистика начала XX в. все чаще и чаще игнорировала фактор сословной принадлежности владельцев промышленных предприятий. О том, что сословное начало все более и более нивелировалось в предпринимательской деятельности, свидетельствует практика проводимых статистических обследований промышленности. Если в изданных по результатам переписей 1900 и 1908 гг. указателях фабрик и заводов еще сохранялись указания на сословие владельцев промышленных предприятий, то опубликованные материалы переписи 1910–1912 гг. такого рода данные уже не содержат.
Список литературы Сословные границы и свобода предпринимательства в России в конце XIX - начале XX в. (на примере промышленного предпринимательства крестьян Среднего Поволжья)
- Арсентьев В. М. Социальные аспекты организации промышленного производства провинциальной России в первой половине XIX в. (на материале Среднего Поволжья). - Саранск: Издательский центр ИСИ МГУ им. Н. П. Огарёва, 2009. - 366 с.
- Источниковедение: учеб. пособие / И. Н. Данилевский, Д. А. Добровольский, Р. Б. Казаков [и др.]; отв. ред. М. Ф. Румянцева; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". - М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - 685 с.
- Клейн Н. Л. Экономическое развитие Поволжья в конце XIX - начале XX века: К вопросу о предпосылках буржуазно-демократической революции в России / под ред. Е. И. Медведева. - Саратов: Издательство Саратовского университета, 1981. - 199 с.
- Литвинова И. Н. Буржуазия Саратовской губернии в конце XIX - начале XX века: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. - Волгоград, 2006. - 271 с.
- Маркушина С. В. Промышленность Саратовской губернии в условиях капиталистической модернизации середины XIX - начала XX вв.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. - Саратов, 2005. - 236 с.