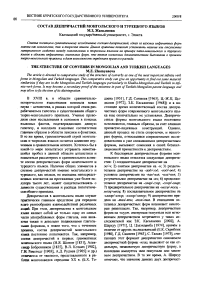Состав деепричастий монгольского и турецкого языков
Автор: Жамьянова Маргарита Зориктуевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 8, 2008 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена сравнительному исследованию состава деепричастий, одних из важных инфинитных форм глагола как монгольских, так и тюркских языков. Данное сравнение позволит установить наличие или отсутствие материального сходства между монгольскими и тюркскими языками на примере халха-монгольского и турецкого языков в области инфинитных глагольных форм, что явится косвенным доказательством бытования в прошлом тюрко-монгольского праязыка, и даст возможность определить время его распада.
Короткий адрес: https://sciup.org/148178436
IDR: 148178436
Текст краткого сообщения Состав деепричастий монгольского и турецкого языков
The article is devoted to comparative study of the structure of converbs as one of the most important infinite verb forms in Mongolian and Turkish languages. This comparative study can give an opportunity to find out some material similarities if they are in the Mongolian and Turkish languages particularly in Khalha-Mongolian and Turkish in infinite verb forms. It may become a secondary proof of the existence in past of Turkish-Mongolian parent language and may allow to fix the time of its disintegration.
В XVIII в. в области сравнительно-исторического языкознания возникла новая наука - алтаистика, в рамках которой стала разрабатываться гипотеза о существовании общего тюрко-монгольского праязыка. Ученые проводили свои исследования в основном в поисках языковых фактов, подтверждающих данную гипотезу, и находили языковые соответствия главным образом в области лексики и фонетики. В то же время, грамматический строй монгольских и тюркских языков остается наименее изученным в сравнительном аспекте. Хотелось бы в какой-то мере попытаться устранить наметившийся пробел в данной области алтаистики и попытаться рассмотреть в сравнительном аспекте состав деепричастных форм монгольского и турецкого языков. Наличие общих элементов в системе деепричастий именно монгольского и турецкого, как языков, не имевших непосредственных контактов на протяжении уже более полугора тысяч лет, может свидетельствовать о давности существования и распада гипотетически общего праязыка.
Деепричастия в монгольском языке служат практически главным средством для передачи всего разнообразия взаимодействий различных акций. При этом, деепричастия в монгольском языке являют собой не только одну из самых часто употребляемых форм глагола, они являются также и довольно подвижными глагольными формами, в плане того, что с течением времени, состав деепричастий монгольского языка постоянно пополняется. Так, например, состав деепричастий в первых грамматиках монгольского языка (И.Я. Шмидт [1831], Алек-сандр Бобровников [1835], В.Л. Котвич [1902], Г.И. Рамстедт [1903], А.Д. Руднев [1905] и др.) отличается от такового, представленного в работах монголоведов середины XX в. (Б.Х. То- даева [1951], Г.Д. Санжеев [1963], Ц.-Ж.Ц. Цы-дыпов [1972], З.К. Касьяненко [1968]) и в настоящее время количественный состав деепричастных форм современного монгольского языка еще окончательно не установлен. Деепричастные формы монгольского языка постоянно пополняются, главным образом, за счет слияния причастно-падежных конструкций. Однако, данный процесс не столь скоротечен, и некоторые формы, относящиеся современными исследователями к уже сложившимся деепричастным формам, вызывают сомнения в своей безапелляционной причастности к деепричастиям.
К бесспорным деепричастным формам монгольского языка относятся следующие деепричастия: I) соединительное деепричастие на жХ-ч; 2) слитное деепричастие на -н; 3) разделительное деепричастие на -аадХ-ээд, -оодХ-еед; 4) условное деепричастие на -валХ-вэл; -волХ-вел; 5) уступительное деепричастие на -вч: 6) продолжительное деепричастие на -саарХ-сэзр, -соорХ-сеер; 7) предварительное деепричастие на -магцХ-мэгц, -моггу'-могц; 8) последовательное деепричастие на -хлаар/-хлээр, -хлоорХ-хлеер; 9) деепричастие предела на -талХ-тэл, -толХ-тел. В отношении остальных деепричастных форм возникают некоторые разногласия. Так, например, деепричастная форма на -нгуут, именуемая попутным или мгновенным деепричастием встречается у таких исследователей как З.К. Касьяненко [2002], А. Шархуу [1971], Ц. Цэдэндамба [1974], причём в отличие от других исследователей (Е.К. Скрибник [1980], Г.Д. Санжеев [1963], С. Галсан [1975], считающих этот формант деепричастия синонимом деепричастной формы -нгаа, выделяют ее как отдельную, независимую деепричастную форму, а последняя именуется ими попутным или замен-ным деепричастием. В то же время, А. Шархуу отмечает, что значение данных двух деепричаст- ных форм максимально приближается, в особенности в случаях, когда мгновенное деепричастие на -нгуут употребляется с возвратной частицей -aa, «...что и послужило для Г.Д. Санжеева и Ш. Лувсанвавдана поводом рассматривать данное деепричастие как вариантную форму попутного деепричастия (на -нгоа)» [1971, с. 7]. В любом случае, данные две формы действительно являются синонимичными, имея лишь небольшой оттенок разницы, заключающийся в передаваемом значении: обе формы передают значение действий, проистекающих попутно со вторым действием, например, гадай гарангуут/гарангаа хог гар-гахуу? «вынесешь мусор, выходя на улицу?». Однако, форма на -нгуут употребляется ещё и в том случае, если речь идет о действии, предшествующем второму действию, с абсолютно незначительным интервалом во времени, например, моих онгойнгуут хаата нээгдчкхэв «как только открыли окно, распахнулась дверь». Таким образом, попутное деепричастие имеет два вышеуказанных аффикса.
В монгольском языке насчитывается три деепричастные формы со значением причины действия: -хаар, -снаар, -мааж(ин) [Цыденова 2006, с. 21]. При этом, если формы на -хаар и - снаар являются достаточно часто употребляемыми в речи, то последняя форма не является таковой. Однако, как пишет П. Бямбасан: «...выборочный просмотр некоторых произведений Ч. Лодойдамбы показывает, что автор довольно часто использует данное деепричастие. Также оно изредка встречается в произведениях других авторов и в публицистических произведениях, обычно в сочетании с вспомогательными глаголами [Бямбасан, 1987, с. 137-138]. Таким образом, несмотря на небольшой процент употребления в разговорной речи, данная форма может быть включена в состав деепричастий монгольского языка.
Другими деепричастными формами, вызывающими сомнения у некоторых исследователей, являются формы относительно недавно перешедшие в разряд деепричастий, образованные путем сращения причастных форм с падежными аффиксами, это: а) форма на -снаар, выделяемая З.К. Касьяненко [2002] как причинное деепричастие, являющаяся сращением формы причастия прошедшего времени на -сан и аффикса орудного падежа -аар. Основанием для определения этой формы как деепричастной служит тот факт, что определяя действие через действие, данная глагольная форма постепенно переходит из разряда причастно-падежных форм в деепричастные, передавая определенное деепричастное значение; б) субъектно притяжательное деепричастие на -снаа, выделяемое З.К. Касьяненко [2002] по её мнению являет собой соединение причастия прошедшего времени на -сан с частицей безличного при-тяжания -аа. Однако, вполне возможно, что данная деепричастная форма являет собой фонетическое сращение аффикса причастия прошедшего времени на -ysan! -gsen и архаичного аффикса дательно-местного падежа -а/-е, таким образом представляя собой причастно-падежное соединение, которое застыло в этой форме и перешло в разряд деепричастий, выражая обстоятельственное деепричастное значение, т.к. образовано оно от обстоятельственного деепричастия. Д.С. Цыденова [2006, с.22] определяет это деепричастие, как деепричастие прерванно-сти действия, основываясь на примеры из компетентных источников. Как свидетельствует Е.К. Скрибник [1980, с. 97], данную форму к деепричастиям также относил и В.М. Наделяев в своих лекциях по монгольскому языку.
По аналогии с моделью образования деепричастной формы на -снаа, образуется и глагольная форма на -хад (-хдаа), где причастная форма будущего времени на -х в уже более современной форме дательно-местного падежа, воспринимается некоторыми исследователями (Т.А. Бертагаев [1964], А. Шархуу [1971]) как уже застывшая в этом виде форма, перешедшая в разряд деепричастий. Тем не менее, большинство исследователей считает, что это причастие будущего времени в дательно-местном падеже, употребляющееся для выражения обстоятельства времени или для выражения предиката зависимой предикативной единицы, выражающей обстоятельственное значение времени. В любом случае, форма на -хад^хдаа) если и воспринимается носителями монгольского языка как форма, выражающая деепричастное значение, окончательный переход этого форманта в разряд деепричастий еще не произошел и он все ещё находится в промежуточном между прича-стно-послеложными конструкциями и деепричастиями положении.
Одним из способов выражения целевых отношений является употребление глагольных форм на -хаар и -хаа, которые называются учеными по-разному. Например, А. Шархуу [1971, с. 7] пишет, что некоторые лингвисты называют данную форму заменным деепричастием, которое не имеет самостоятельности и передает значение целевого деепричастия. ЗК. Касьяненко [2002], Е.К. Скрибник [1980] и Г.Д. Санжеев [1963] выделяют его как самостоятельное деепричастие. По мнению Д.С. Цыденовой [2006] и нашим личным наблюдениям употребление данной глагольной формы в речи встречается в значении причинности, а также последовательности действий, исходя из чего форму на -хаар можно определить как деепричастие цели.
Также составной, по мнению С, Галсана [1975], является форма на -лгуй, однако исследователь склонен относить эту форму к причастиям, т.к. «...они по своим синтаксическим функциям сильно напоминают причастные формы монгольского языка» [1975, с. 253]. Тем не менее, по своим функциям и значению, данная форма относится все же к деепричастиям, т.к. она не может выступать в роли определения к именам существительным и определяет лишь главное действие по отсутствию второстепенного, зависимого действия, что является чисто деепричастной функцией. Г.Д, Санжеев же рассматривает форму на -лгуй не как самостоятельную деепричастную форму, а как отрицательный вариант слитного деепричастия [1963, с. 238-239]. В качестве отрицательного деепричастия данная форма выделена П. Бямбасаном [1987] у З.К. Касьяненко [2002].
Г.Д. Санжеев [1963], З.К. Касьяненко [2002] выделяют в монгольском языке показатель -ваас как вариантный аффикс условного деепричастия. Однако же, как отмечает Г.Д. Санжеев, «эта условная форма -басу (старописьменный вариант -ваас - прим. М.Ж.) не встречается в живых монгольских языках, если не считать отдельных случаев ее проникновения из книжной литературы в устную речь. Кроме того, эта условная форма, подвергаясь соответствующим фонетическим изменениям, встречается иногда и в устной речи, но преимущественно в зонах распространения монгольского и ойратского старописьменных языков, где она употребляется грамотеями, певцами и ораторами» [1963, с. 146, 149-150]. Иными словами, данная форма деепричастия не получила широкого распространения в разговорном монгольском языке.
Форма цитатного деепричастия на -руун/-руун также является фактически неупотребляемой в разговорном языке, в связи с чем, не встречается в современных учебниках монгольского языка. Однако, данную деепричастную форму выделяет А. Шархуу [1971], которого поддерживает Д.С. Цыдеяова [2006], аргументируя свое решение тем, что указанная деепричастная форма достаточно часто употребляется писателями в целях стилизации текста, для передачи архаичности.
Что касается деепричастий турецкого языка, то здесь состав указанных форм относительно стабилен. Количественный состав деепричастных форм в турецком языке варьирует в зависимости от того, считают ли исследователи отрицательные формы от некоторых деепричастий независимой отдельной деепричастной формой, или нет. Однако в целом, состав деепричастий в турецком языке у исследователей не имеет принципиальных различий. В связи с этим, А.Н. Кононов в своей «Грамматике современного литературного турецкого языка» [1956] насчитывает 10 деепричастий, Ю.В. Щека в работе «Практическая грамматика турецкого языка» [2007] приводит 12 деепричастных форм, при этом отмечая, что некоторые из них, например, деепричастие на Цу^псАуЛ kadar представляет собой «сочетание деепричастия на -(у)1паА с аффиксом дательного падежа и послелогами kadar (до) и dek (до) [2007, с. 301-302]. В книге Yeni dilbilgisi (Новое языкознание) Нуреттина Коча [1996, с. 398-400] в приведенной им таблице деепричастий турецкого языка встречаются причастно послеложные и причастно-падежные формы, вместе с которыми насчитывается 31 форма деепричастий. Если же исключить из их числа конструкции с причастными формами, остается 18 форм. Эйюп Гениш в книге «Глагольные формы в турецком языке» [2005] выделяет 4 деепричастия, при этом деепричастия в турецком языке им выделяются строго в соответствии с русскими деепричастиями, т.е. турецкую форму, которая семантически соответствует и морфологически соотносится с русскими деепричастиями он обозначает как деепричастие, при этом, именует их названиями русских деепричастий. Остальные же формы, указываемые другими исследователями в качестве деепричастия, Эйюп Гениш [2005, с. 20, 23,28,99] не называет вообще, оставляя их с одним лишь переводом и примерами.
Таким образом, в турецком языке выделяются следующие деепричастные формы, встречающиеся фактически у всех исследователей: 1) деепричастие на -(y)ip/-(y)ip, -(у)ир/-(у)«р; 2) деепричастие на -(у)агак/-(у)егек; 3) деепричастие на -(у)а/ (у)-е; 4) деепричастие на -(y)ah/ -(y)eli; 5) деепричастие на -(у)тса/ -(y)ince', 6) деепричастие на -dtk 7) деепричастие на -casino/ -cesine.
Активно употребляемые в речи деепричастные формы на -madanZ-meden и -maksizin /-meksizin по сути являют собой отрицательные формы деепричастий на -(y)ipZ-(y)ip, -(y)upZ-(у)йр и -(y)arakZ-(y)erek, тем не менее, их можно считать самостоятельными деепричастными формами, с собственными формантами и синтаксическими функциями.
А.Н. Кононовым [1956] и Ю.В. Щекой [2007] выделяется в турецком языке деепричастие на -iken. Эго самостоятельное слово и пишется отдельно. Однако, сам аффикс имеет особенность, заключающуюся в том, что присоединяется не непосредственно к основам глаголов, а к именным глагольным формам, причастиям, и что более примечательно к именам существительным (иногда в падежной форме) или прилагательным. В связи с этим возникает вопрос, насколько правомерно относить указанный аффикс к деепричастиям, только на основе того, что при помощи данного форманта, присоединяемого к некоторым глагольным формам можно выразить обстоятельственные отношения времени? Тем более, что присоединяется этот аффикс, как это было указано выше, к именным формам глаголов. Кроме того, присоединение глагольных формантов к именным основам в принципе невозможно. Тем не менее, по утверждению А.Н. Кононова, составное из основы глагола i- < ir- - er- «быть» и образующего глагольное имя аффикса -кеп, это самостоятельное слово в результате длительного употребления в народно-разговорном языке превратилось в аффикс деепричастия и в современном языке употребляется в двух видах: самостоятельное слово iken и афф. Ау)кеп [Кононов 1956, с. 485]. Основным значением данного, так называемого деепричастия, является выражение обстоятельственных значений времени «когда...», «в то время когда...», например, ogrenciyken ben bu kttap док defa okudum «когда я учился в школе (был учеником) я прочитал эту книгу много раз», либо обстоятельства образа действия, например, sen hig bir $еу igitmezken bu haberi nasil fyiitin? «Каким образом ты услышал эту весть, между тем как обычно ты ничего не слышишь?» [Кононов 1956, с. 468]. В последнем примере, на наш взгляд, при помощи исследуемого аффикса передается значение образа действия с дополнительной коннотацией времени, «тогда как ты не слышишь ничего...». Таким образом, данный аффикс можно отнести к глагольным формам (т.к. образовано оно от глагола i- «быть»), оформляющим сказуемое зависимой предикативной единицей, выражающей временное обстоятельственное отношение. Однако его отношение к деепричастным формам можно поставить под сомнение.
В целом же, также как и в монгольском языке, деепричастные формы турецкого языка являются довольно частым способом выражения обстоятельственных отношений различных действий. При этом, как это можно заметить, монгольский язык значительно богаче деепричастными формами по сравнению с турецким языком, что свидетельствует о том, насколько тонкие семантические оттенки можно передать отдельными деепричастными формами.
Как видно из сравнения, материальных схождений в составе деепричастий современного мон гольского и турецкого языков не обнаруживается. Это может свидетельствовать о том, что становление систем деепричастий в обоих языках происходило самостоятельно, независимо друг от друга, после распада гипотетического общего праязыка, что в свою очередь является показателем того факта, что существование общего праязыка отодвигается в глубокую древность.
Список литературы Состав деепричастий монгольского и турецкого языков
- Бертагаев Т.А. Синтаксис современного монгольского языка в сравнительном освещении/Т.А. Бертагаев. Простое предложение. -М, 1964.
- Бобровников А. Грамматика монгольского языка/А. Бобровников. -СПб., 1835.
- Галсан С. Сопоставительная грамматика русского и монгольского языков/С.Галсан. -4.1. -Улан-Батор, 1975. 247 с.
- Гениш Эйюп. Глагольные формы в турецком языке/Эйюп Гениш. М.: Ленанд, 2005.
- Касьяненко З.К. Современный монгольский язык/З.К. Касьяненко. Л.: Изд-во ЛГУ, 1968.
- Касьяненко З.К. Современный монгольский язык: учебное пособие/З.К. Касьяненко. М.: Муравей, 2002.
- Кононов А/Н. Грамматика современного турецкого литературного языка/А.Н. Кононов. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1956.
- Котвич В.Л. Лекции по грамматике монгольского языка, читанные приват-доцентом Санкт-Петербургского университета В.Л. Котвичем. Издание студентов Э. Мауринг и Э. Беренс/В.Л. Котвич. -СПб, 1902.
- Наделяев В.М. Современный монгольский язык. Морфология/В.М. Наделяев. -Новосибирск: Наука, 1988. -112с.
- Руднев А.Д. Лекции по грамматике монгольского письменного языка, читанные в 1903-1904 академическом году/А. Д. Руднев. Вып. 1. -СПб, 1905.
- Санжеев Г.Д. Сравнительная грамматика монгольских языков. Глагол/Г.Д. Санжеев. -М., 1963.
- Скрибник Е.К. О системе деепричастий в современном бурятском языке//Народы и языки Сибири/Е.К. Скрибник. -Новосибирск: Наука, 1980.
- Тодаева Б.Х. Грамматика современного монгольского языка. Фонетика и морфология/Б.Х. Тодаева. -М., 1951.
- Цыденова Д.С. Деепричастия монгольского и корейского языков. Форма и значение/Д.С. Цыденова: автореф. дис.... канд. филол. наук. -Элиста, 2006.
- Цыдыпов Ц-Ж.Ц. Аналитические конструкции в бурятском языке/Ц-Ж.Ц. Цыдыпов. -Улан-Удэ, 1972.
- Цэдэндамба Ц. Очерки по сопоставительной грамматике русского и монгольского языков/Ц. Цэдэндамба. -Улан-Батор: Изд-во Министерства народного образования МНР, 1974.
- Шархуу А. Деепричастия и деепричастные конструкции в современном монгольском языке/А. Шархуу: автореф. дис....канд. филол. наук. М., 1981.
- Щека Ю.В. Практическая грамматика турецкого языка/Ю.В. Щека. М.: Изд-во Восток-Запад, 2007.
- Бямбасан П. Орчин цагийн монгол хэлний уг зуйн бай-гуулалт/Бямбасан П., бнербаян Ц., Пурэв-Очир Б., Санжаа Ж„ Жанчивдорж Ц./П. Бямбасан. -Улаанбаатар, 1987.