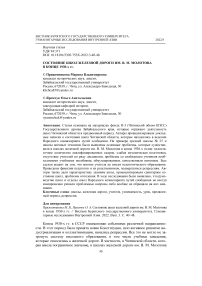Состояние школ железной дороги им. В. М. Молотова в конце 1930-х гг
Автор: Пряженникова Марина Владимировна, Яремчук Ольга Анатольевна
Статья в выпуске: 3, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья основана на материалах фонда П-3 (Читинский обком КПСС) Государственного архива Забайкальского края, которые отражают деятельность школ Читинской области в предвоенный период. Авторы проанализировали докладные записки о состоянии школ Читинской области, которые находились в ведении Народного комиссариата путей сообщения. На примере средней школы № 25 и школы военных техников были выявлены основные проблемы, которые существовали в школах железной дороги им. В. М. Молотова в конце 1930-х годов: недостаточное количество квалифицированных кадров, слабая методическая подготовка, отсутствие учителей по ряду дисциплин, проблемы со снабжением учеников необходимыми учебными пособиями, обмундированием, качественным питанием. Был сделан акцент на том, что многие учителя не имели педагогического образования. Приведены фамилии педагогов и их родственников, подвергшихся репрессиям. Авторы также дали характеристику зданиям школ, проанализировали санитарное состояние школ, проблемы отопления. В ходе исследования было выявлено, что руководство школ и отделы школ Народного комиссариата путей сообщения не всегда своевременно решали проблемные вопросы либо вообще не обращали на них внимания.
Школы, железная дорога, учителя, успеваемость, урок, предвоенный период, репрессии
Короткий адрес: https://sciup.org/148325394
IDR: 148325394 | УДК: 94:371 | DOI: 10.18101/2305-753X-2022-3-40-48
Текст научной статьи Состояние школ железной дороги им. В. М. Молотова в конце 1930-х гг
Пряженникова М. В., Яремчук О. А. Состояние школ железной дороги им. В. М. Молотова в конце 1930-х гг. // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2022. Вып. 3. С. 40‒48.
Конец 1930-х гг. в СССР ознаменован событиями различной направленности. В этот период была принята новая Конституция, шло активное развитие индустриализации и коллективизации, начались репрессии. Все это не могло не затронуть систему школьного образования, в том числе учебные заведения, которые относились к железной дороге. В частности, в Читинской области, которая имела пограничное значение, в школах железной дороги им. В. М. Молотова отмечались отдельные факты, ставшие следствием указанных выше процессов. Отдельные аспекты деятельности учебных заведений железнодорожного ведомства Забайкалья и в целом СССР в рассматриваемый период были представлены в работах общего характера и энциклопедических изданиях [1‒4].
В материалах Государственного архива Забайкальского края отмечается, что успеваемость в читинских школах Народного комиссариата путей сообщения (НКПС) была низкой. В 1937/38 учебном году школы при железной дороге им. В. М. Молотова по указанному показателю заняли 38-е место по всей сети железных дорог СССР, однако уже в первой четверти 1938/39 учебного года эти учебные заведения поднялись на 31-е место. Успеваемость в школах железной дороги в среднем составляла 52‒60%, что отчасти было следствием недостаточной квалификации педагогического состава. Об этом, например, свидетельствуют следующие данные: из 404 учителей начальных классов средних и неполных средних школ 174 были без законченного среднего образования, только 176 имели среднее педагогическое образование. Из 202 учителей основных школ и неполных средних школ 39 имели высшее педагогическое образование, 74 — среднее, остальные — среднее педагогическое. По стажу состав педагогов был молодой: до 5 лет — 264 чел., 5‒10 лет — 197 чел., остальные — больше 10 лет.
Важным фактором, безусловно, повлиявшим на педагогический состав учебных заведений Забайкалья, стали политические репрессии, набиравшие обороты в конце 1930-х гг. Факты ареста органами НКВД и высылки части учителей за пределы Читинской области потребовали от Центрального отдела школ НКПС уделять максимум внимания комплектованию педагогическими кадрами школ железной дороги им. В. М. Молотова, имевшей оборонное значение в приграничной области, однако на деле это не выполнялось — в ряде учебных заведений железнодорожного ведомства в старших классах не преподавались русский язык, литература и математика. Например, в средней школе ст. Петровский Завод в 7‒10-х классах не велись занятия по русскому языку и литературе; в средней школе № 20 ст. Чита I в 8‒10-х классах — по литературе; в Урульгинской средней школе № 32 в 7‒10-х классах — по математике1.
Для нормального функционирования школ дороги не хватало учителей: русского языка и литературы — 11 чел.; математики — 9; иностранного языка — 17; географии — 2; химии-биологии — 2; истории — 5; начальной школы — 22. Из командированных на железную дорогу в 1938 г. Центральным отделом школ НКПС не было ни одного учителя русского языка и литературы и ни одного физика-математика с высшим образованием. Такая ситуация в школах лишала возможности учащихся 7-х классов поступать в техникумы, а учащихся 10-х классов — в вузы2.
Проблемы, которые существовали в школах железной дороги в Читинской области, можно проиллюстрировать на примере средней школы № 25 ст. Чита I. К началу 1939/40 учебного года школа № 25 не была укомплектована педагогами: не хватало трех учителей русского языка и литературы, математики в 6‒7-х классах, физики, физической культуры и военного дела, иностранного языка (по- следний приступил к занятиям с 7 сентября с нагрузкой 48 часов в шестидневку), учитель истории находилась в декретном отпуске, а также требовалась уборщица, не было ни одной. Школа вовремя не отремонтирована, мебель находилась в плохом состоянии, топливо не заготовлено1.
За ремонт школы ответственность была возложена на Отдел школ дороги и директора школы Кутузова, который своевременно, а именно после окончания предыдущего учебного года, поставил вопрос о ремонте в учебном заведении перед указанным Отделом и на совещании директоров школ, а также непосредственно перед начальником железной дороги Степановым. Знали об этом и бывший начальник Отдела школ Эзрин и инспектор Бояркин. Несмотря на то, что ремонт школы и интерната при ней находился под угрозой срыва, Кутузов уехал на заочную сессию, поручив подготовку школы к началу учебного года заведующей учебной частью Вагиной, находившейся в декретном отпуске, и заведующему хозяйством Максимову2.
В числе учителей оказались те, у кого были репрессированы (арестованы органами НКВД) родственники, а именно: учитель химии Кононенко — арестован муж; учитель арифметики Сизова — к расстрелу приговорен дядя; учитель географии Соснина — арестован муж; учитель биологии Ильина — арестован муж; учитель математики Гладких — арестована жена; учитель истории Честнов — арестован отец; учитель начальных классов Захарченко — арестован отец; учитель начальных классов Кочерина — высланы в 24 часа отец и мать; учитель Гриченко — арестован муж, сама выслана в 24 часа. В 1938 г. были арестованы учителя: Титова, Забелин, Неустроев, Булгаков, Свентицкий (директор школы)3.
Среди учителей довольно часто наблюдались факты нарушения трудовой дисциплины. Например, 28 декабря 1938 г. учебный день первой смены был сорван, так как учителя по разным причинам отсутствовали. Учитель химии, она же заведующая учебной частью, уехала в Читу в Отдел школ дороги, учитель зоологии Кононенко ушла компостировать билет, учитель математики Гладких сидел в учительской и проставлял оценки учащихся в журнал. Дежурный учитель по школе отсутствовал. Были случаи невыполнения распоряжений руководителей школы (учитель Пантелеева не пошла на открытый урок, отказалась от доклада на секции учителей русского языка и литературы).
В школе отсутствовали учебно-производственный план, план работы директора и завуча, правила внутреннего распорядка. Классные журналы педагоги заполняли небрежно — отмечали разноцветным карандашом, делали кляксы, помарки, не отражали повседневный текущий учет знаний учащихся. Учителя арифметики Сизова и математики Матафонов не спрашивали некоторых учащихся в течение месяца, а в последние дни четверти начинали осуществлять быстрый опрос по 10‒15 человек за час.
Директор и завуч крайне редко посещали уроки учителей. Учет и анализ посещения уроков не производились, отсутствовала работа с отдельными педагогами, несмотря на то, что многим из них требовалась методическая помощь.
В поддержке нуждались как молодые педагоги (Сизова, Комогорцева), так и учителя с большим педагогическим опытом, но с высокой нагрузкой в учебных часах (Морозов — 48 ч, Матафонов — 43 ч)1.
Все это обязывало директора и заведующего учебной частью повседневно проводить методическую работу, организовывать повышение квалификации учителей, систематически осуществлять учет и контроль за деятельностью педагогического коллектива. В отчетных документах подчеркивалась необходимость уделять внимание умению педагогов учить и воспитывать, качеству уроков, подготовке к занятиям. Рекомендовалось учителям в учебный процесс добавлять живости, красочности, образности в изложении материала. Кроме того, отмечалось, что в преподавании почти отсутствовала наглядность (география, история), учебный материал не был насыщен элементами коммунистического воспитания, что в то время было обязательным в образовательном процессе. Все это требовалось учитывать в педагогической практике учителей. Вместо индивидуальной работы с учащимися в школе практиковались групповые дополнительные занятия, например, по математике в 6‒7-х классах. Большое значение придавалось самостоятельной работе, выполнению домашних заданий.
С дисциплиной в школе ситуация обстояла крайне неблагополучно, были случаи порчи школьного имущества, грубые нарушения правил поведения учащихся на уроках и вне уроков. Например, ученик 5-го класса Нагибин во время урока английского языка ходил по классу, бегал на четвереньках, были случаи, когда ученики на занятиях забирались под парты (урок рисования). Опоздание на уроки, уход с занятий носили массовый характер (например, на уроке физической культуры из 29 человек отсутствовало 11). Особенно часто это наблюдалось среди учащихся интерната, которые уходили с уроков и даже уезжали домой без разрешения дирекции (29 декабря 10-й класс самовольно ушел домой после 4-го урока). Учащиеся позволяли грубости по отношению к учителям. Например, ученик Добрынин ответил учительнице Сосниной: «Что ты ко мне привязываешься? Я не с тобой разговариваю». Ученик 5-го класса Клеушин, уходя с урока, сказал: «Передайте учительнице, что у меня собака сдохла, я пошел ее хоро-нить»2.
Имели место и криминальные случаи, среди которых отметим ранение ученика 4-го класса Михеева учеником 5-го класса Михайловым. Кроме того, был случай самоповреждения учеником 10-го класса Берковым, покончившего затем самоубийством, предположительно, в погоне за славой и авторитетом. Берков терроризировал всю школу анонимными записками различного содержания, будучи учеником Улетовской школы, был судим за кражу часов и состоял в контрреволюционной организации «Черный ворон»3.
Из всех этих фактов администрация школы не сделала соответствующих выводов: политико-воспитательная деятельность продолжала оставаться в неблагополучном состоянии. Не была развернута военно-оборонная работа, не действо- вали кружки. По этой причине учебное заведение не было включено в борьбу за переходящее Красное знамя Обкома ВЛКСМ.
Кроме того, в школе была слабо поставлена работа пионерской и комсомольской организаций, общественность не привлекалась к работе учреждения, с родителями никакой работы не проводилось, не было ни одного общего родительского собрания. Связь с родителями осуществлялась, главным образом, с помощью записок, что также влияло на успеваемость: за первую четверть 1938/39 учебного года она составила 65,4%; за вторую — 72%, были классы с низкой успеваемостью: 5 «Д» класс — 35,1%; 7 «В» класс — 42%; 7 «Б» класс — 45%; 6 «Б» класс — 46,4%; 5 «Г» класс — 46,5%.
По некоторым классам успеваемость за вторую четверть значительно снизилась: 6 «Г» класс за первую четверть имел успеваемость 59,5%, а за вторую — 39,5%; 10-й класс — 86,2 и 78,6% соответственно. Низкий процент успеваемости был в основном по предмету «Конституция СССР» в 7-х классах: 7 «Б» — из 32 чел. 20 учащихся имели оценки «удовлетворительно» и 6 — «неудовлетворительно»; 7 «В» — из 29 чел. 15 учащихся имели «удовлетворительно», 2 — «неудовлетворительно». Из общего количества учащихся 1034 чел. только 23 являлись отличниками, из них 15 — учащиеся начальных классов и только 8 — средней школы1.
Как было указано выше, при школе № 25 был интернат для детей транспортников по линии Урульга — Могзон в количестве 106 чел., в деятельности которого также наблюдались сложности.
Здание интерната было вполне приспособлено, но своевременного ремонта не проводилось. Интернат был оборудован плохо: столы, стулья, тумбочки пришли в негодность. Электропроводка нуждалась в замене, электроэнергия часто отключалась, что срывало нормальную подготовку к урокам. В интернате было грязно, кухня находилась в антисанитарном состоянии. Работники столовой допускали грубость в обращении с учащимися. Медосмотр учащихся не проводился, аптечки и изолятор отсутствовали. Воспитателей в интернате не хватало, учащиеся были предоставлены сами себе, что порождало курение и плохое поведение и т. д. В интернате не была организована детская самодеятельность, не проводились беседы, читки газет, отсутствовали библиотека и радио2.
Кроме того, в школе имелась группа учителей с антисоветскими настроениями. Соснина, у которой был арестован муж, отмечала, что раньше школой руководил враг народа (Свентицкий), а школа работала лучше и она же выражала сожаление о том, что школу, по ее словам, «оголили», т. е. арестовали несколько преподавателей: Булгакова, Шитову, Забелина, Неустроева и др.3. Учитель английского языка Морозов на педагогическом совещании при подведении итогов работы школы за вторую четверть 1938/39 учебного года выразил мнение, что «мы несколько часов занимаемся пустяками». Был случай, когда директор Кутузов вызвал учителя русского языка и литературы Пантелееву по вопросу повы- шения успеваемости по предметам, на что она отвечала: «Из плохой кожи не сошьешь хорошей обуви».
Кутузов обо всех этих фактах только сигнализировал, а сам как руководитель и воспитатель педагогического коллектива свою работу не перестроил, не организовал коллектив, не потребовал честного отношения к работе. Директор болезненно реагировал на недостатки в его деятельности, указанные со стороны коллектива, не старался их исправить, в результате чего коллектив был разобщен.
О срыве подготовки школы № 25 и интерната к началу 1939/40 учебного года, плохой постановке учебно-воспитательной работы, крупных хозяйственных недостатках (отсутствие топлива, незаконченность ремонта, непригодность инвентаря, необорудованность школы учебными кабинетами, необходимыми учебными пособиями) знал Отдел школ дороги в лице Журавлева и Бояркина1. В ноябре инспектор Отдела школ дороги Андреев обследовал школу и никаких мер по налаживанию работы и помощи директору не оказал. Ни Райком партии ст. Читы I, ни политотдел дороги, никто из них не уделил внимания школе, а директора Кутузова вызывали к себе только как пропагандиста2.
Не вполне благополучно обстояли дела и в школе военных техников (ШВТ) железнодорожного транспорта. В ней работало два отделения: паровозное и эксплуатационное. Курсантов числилось 300 человек, из них членов и кандидатов ВКП(б) — 9 и комсомольцев — 100.
В школе не были созданы нормальные условия для занятий, она не была укомплектована штатными преподавателями по основным дисциплинам специальности «Паровозное и эксплуатационное дело». В большинстве случаев преподавателями работали сотрудники отделов железной дороги по совместительству. Часто наблюдались срывы занятий, особенно по специальным дисциплинам. Например, за один месяц занятий по паровозному делу было сорвано 44 ч., по коммерческой эксплуатации — 20 ч. и по другим дисциплинам — 26 ч. К концу второго полугодия 1937/38 учебного года не были разработаны и даны темы для дипломных работ курсантам, которые выпускались в мае. Срыв занятий со стороны преподавателей происходил главным образом из-за перегруженности их основной работой. Руководством школы неоднократно ставился вопрос перед начальником железной дороги им. В. М. Молотова об укомплектовании школы кадрами, но реальной помощи в этом вопросе не оказали.
Начальником дороги Степановым был подписан приказ от 19 декабря 1937 г., в котором отмечалось, что работники, ведущие занятия в ШВТ, Отделами служб должны освобождаться на соответствующее количество часов работы, но документ этот не выполнялся. В приказе также было указано, что руководитель школы должен ежедневно докладывать начальнику дороги о случаях срыва занятий, но на неоднократные письменные и устные сообщения администрации учебного заведения о невыполнении нормативного акта, а следовательно, и продолжавшихся срывов занятий никаких мер не было принято3.
Со стороны политотдела дороги помощи также не было оказано. В помещении ШВТ кроме самой школы занимались курсы комсостава и курсы политотдела дороги, что создавало чрезмерную стесненность. Занятия проводились в две смены, причем имел место большой беспорядок в использовании классных комнат под занятия. Некоторые курсы занимали хорошие классные комнаты, не считаясь с расписанием, а другие, оставшись без комнаты, ходили долгое время после звонка в поисках места проведения занятий, теряя учебное время сами и мешая заниматься другим. В классных комнатах было грязно, воздух тяжелый, часть учебного корпуса была занята под общежитие. Перегруженность помещения и двухсменные занятия в значительной мере затрудняли развертывание культмассовой работы с курсантами школы. В школе не было военного режима, который должен быть по положению. Инструкторы политотдела дороги бывали редко и то в тех случаях, когда им требовалась помощь от школы. Полит-массовой работой в ШВТ они не занимались. Начальник политотдела отсутствовал.
Исключительно плохо было организовано питание курсантов. Отпускаемая на питание сумма 4 р. 17 к. в день на учащегося не расходовалась в полном объеме, из нее ежедневно 70‒80 к. шло на содержание штата столовой и другие расходы. Имело место хищение продуктов со стороны обслуживающего персонала, несмотря на то, что 16 работников кухни и столовой питались бесплатно. Отмечалось плохое качество приготовленной пищи и однообразие (главным образом за счет перловой крупы и гороха). Имелись затруднения в части обеспечения столовой продуктами. Отсутствовала плановость снабжения продуктами, приходилось покупать их на рынке небольшими частями, что приводило к удорожанию стоимости питания и не обеспечивало потребности ни в количественном, ни в качественном отношении. Большие сложности школа имела в части обеспечения вещевым довольствием, главным образом, обувью и бельем.
Исходя из вышесказанного, дирекции дороги им. В. М. Молотова во главе со Степановым было необходимо не позднее 20 марта 1938 г. обеспечить школу штатным преподавателем по эксплуатационной специальности и обязать начальников служб Управления дороги освобождать преподавателей-совместителей на часы, занятые ими в ШВТ, а также подобрать начальника школы1. Степанов также должен был обязать Дорторг обеспечить снабжение продуктами питания, единовременно отпустить бельевой мануфактуры; просить центральное управление об обеспечении обмундированием, постельными принадлежностями в соответствии с положением, об увеличении средств на питание до 189 р. на человека в месяц. Кроме того, обслуживающий персонал кухни и столовой следовало отнести к штату школы, а курсы политотдела дороги перевести в другое помеще-ние2.
Таким образом, на примере двух школ железной дороги им. В. М. Молотова можно проследить, что школы Читинской области, находившиеся в подчинении НКПС, в конце 1930-х гг. испытывали большие трудности в своей деятельности. Главным образом, не хватало квалифицированных кадров, основная часть учите- лей не имела педагогического образования, слабой была и методическая подготовка, не хватало педагогов по ряду дисциплин. Проблемным оставался вопрос о снабжении учеников необходимыми учебными пособиями, обмундированием, качественным питанием. В зданиях школ было грязно, холодно, т. к. топливом не всегда школы себя обеспечивали. Решение ряда вопросов напрямую зависело от дирекции и от Отделов школ НКПС, однако не всегда все проблемы решались своевременно.
Список литературы Состояние школ железной дороги им. В. М. Молотова в конце 1930-х гг
- Васильев А. С. Читинский техникум железнодорожного транспорта // Малая энциклопедия Забайкалья. Наука и образование: в 2 частях / главный редактор Р. Ф. Гениатулин. Новосибирск: Наука, 2011. С. 418-419. Текст: непосредственный.
- Гапоненко Ю. М. Подготовка кадров в школах военных техников железнодорожного транспорта Дальнего Востока и Забайкалья // Манускрипт. 2018. № 12(98), ч. 2. C. 214-218. Текст: непосредственный.
- История железнодорожного транспорта России и Советского Союза. Т. 2: 1917-1945 гг. / под редакцией Н. Е. Аксененко. Санкт-Петербург: Иван Федоров, 1997. 416 с. Текст: непосредственный.
- Маслинский К. А. Учитель железнодорожной школы (к типологии советских педагогических сообществ) // Антропологический форум. 2012. № 16. С. 403-418. Текст: непосредственный.