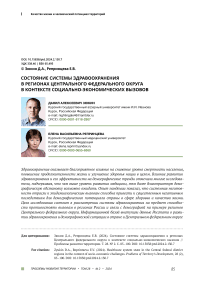Состояние системы здравоохранения в регионах Центрального федерального округа в контексте социально-экономических вызовов
Автор: Зюкин Д.А., Репринцева Е.В.
Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac
Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий
Статья в выпуске: 2 т.28, 2024 года.
Бесплатный доступ
Здравоохранение оказывает благоприятное влияние на снижение уровня смертности населения, повышение продолжительности жизни и улучшение здоровья нации в целом. Влияние развития здравоохранения и его эффективности на демографические тренды отмечали многие исследователи, подчеркивая, что чем выше уровень развития медицины, тем более благоприятную демографическую обстановку возможно ожидать. Опыт пандемии показал, что системная неготовность отрасли к эпидемиологическим вызовам способна привести к существенным негативным последствиям для демографического потенциала страны в сфере здоровья и качества жизни. Цель исследования состоит в рассмотрении системы здравоохранения на предмет способности противостоять вызовам в регионах России и связи с демографией на примере регионов Центрального федерального округа. Информационной базой выступили данные Росстата о развитии здравоохранения и демографической ситуации в стране и Центральном федеральном округе в период 2014-2022 гг. Методология исследования состоит в выявлении причинно-следственных связей между финансовым обеспечением здравоохранения и результативностью функционирования отрасли в контексте потенциала положительного влияния на демографическую ситуацию в стране. Определено, что во всех регионах Центрального федерального округа, за исключением Москвы, предшествующее снижение ресурсного потенциала здравоохранения стало одним из факторов неблагоприятных демографических последствий, наиболее ярко проявившихся в 2021 году, когда численность населения заметно сократилась. В 2022 году на фоне окончания мировой пандемии произошло естественное снижение смертности в стране, численность населения вновь стала увеличиваться. Это позволяет говорить о том, что фактически система здравоохранения, на которую возлагается главенствующая роль по охране здоровья граждан в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, оказалась малоэффективной в период пандемии коронавирусной инфекции. Опыт пандемии показал наличие ряда проблем, препятствовавших более эффективному противостоянию COVID-19, которые сохраняют и в будущем риск чрезмерного повышения уровня смертности при подобных эпидемиологических угрозах. На основе учета опыта пандемии необходимо проводить мероприятия по совершенствованию системы здравоохранения в России.
Центральный федеральный округ, социальная политика, демографическая ситуация, здравоохранение, мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, коечный фонд, заболеваемость, смертность
Короткий адрес: https://sciup.org/147243356
IDR: 147243356 | УДК: 338.46 | DOI: 10.15838/ptd.2024.2.130.7
Текст научной статьи Состояние системы здравоохранения в регионах Центрального федерального округа в контексте социально-экономических вызовов
Обеспечение развития социально значимых отраслей входит в круг приоритетных вопросов государственной политики России уже долгие годы. При этом значимость формирования эффективной системы здравоохранения в последние годы существенно возросла (Tagaeva, Kazantseva, 2020). Пандемия коронавируса стала проверкой на прочность для систем здравоохранения многих стран мира, особенно тех, где рост заболеваемости был крайне высоким. Одной из наиболее пострадавших стран оказался Китай, где, несмотря на успехи системы здравоохранения, высокая плотность населения и быстрая скорость распространения вируса привели к росту летальности и низкой эффективности предпринимаемых мер (Wang et al., 2020; Storey, 2023).
Пандемия коронавирусной инфекции отчетливо показала, что состояние системы здравоохранения в России сегодня не соответствует возможным эпидемиологическим вызовам. Сложившейся в отрасли ситуации предшествовал длительный период модернизации и оптимизации, которые носили системный характер (Власова, 2020).
Поскольку здравоохранение остается бюджетно-зависимой отраслью, в условиях дефицита государственного бюджета расходы на обеспечение ее нормального функционирования стали высокими, что привело к необходимости поиска резервов для повышения экономической эффективности отрасли с помощью сокращения издержек (Сергеева, 2018; Boglaeva, Kemaikina, 2020). Одним из путей стали реорганизация и укрупнение сети медицинских организаций, сокращение «неэффективных» мощностей, главным образом в стационарах, поскольку именно данный вид медицинской помощи остается наиболее дорогостоящим (Репринцева, 2020; Карпова, Загоруйченко, 2022). Высокая стоимость оказания медицинской помощи в условиях стационаров стала толчком для развития профилактической направленности отрасли и переноса основной нагрузки на амбулаторно-поликлиническое звено и дневные стационары. При этом коечный фонд круглосуточных стационаров в рамках проводимой оптимизации был существенно сокращен, поскольку обслуживание коек является затратным, а кроме того, требует наличия соответствующего количества медицинского персонала (Репринцева, Сергеева, 2018; Зюкин, 2020). К примеру, в соответствии с утвержденной Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год норматив затрат на один случай госпитализации в условиях круглосуточного стационара составляет более 89 тыс. руб., в то время как в условиях дневного стационара – 15,4 тыс. руб.1
Начавшаяся в 2014 году оптимизация в отечественном здравоохранении в конечном итоге не способствовала формированию ожидаемого социально-экономического эффекта, но при этом привела к снижению пропускной способности медицинских организаций, в результате чего увеличился срок ожидания получения медицинских услуг в плановом порядке. С одной стороны, сокращение коечного фонда обусловлено развитием стационар-замещающих технологий, направленных на уменьшение числа необоснованных госпитализаций и снижение нагрузки на больницы. С другой стороны, уже не один год ведутся дискуссии на предмет того, что оптимизация стала фактически повальным сокращением мощностей здравоохранения, нацеленным на экономию дефицитных средств. При этом вопросы сохранения медицинской и социальной эффективности отрасли в данных условиях оказались вторичными (Калининская и др., 2020; Климова, 2021; Городюк, 2022; Карайланов и др., 2023).
В результате проведенная модернизация не способствовала повышению эффективности функционирования здравоохранения. Как справедливо отмечают авторы, начавшаяся пандемия еще больше обнажила усугубившиеся проблемы, что является следствием недофинансирования, признанного в научном и медицинском сообществе «хроническим», а также неэффективного менеджмента (Улумбекова, Гилоян, 2022). В период пандемии кратно возросла нагрузка на больничную сеть здравоохранения страны, при этом предшествующее сокращение коечного фонда существенно ограничило возможности стационаров в принятии пациентов даже в рамках перепрофилирования стационаров под пуль- монологическое направление (Pospelova et al., 2020; Maltsev, 2023). Мероприятия по строительству быстровозводимых «ковид-ных» госпиталей по опыту других стран, в первую очередь Китая, также оказались несостоятельны в России, поскольку построить и оснастить в кратчайшие сроки дополнительные мощности здравоохранения не удалось. Кроме того, учитывая высокую частоту возникновения пневмонии как осложнения коронавирусной инфекции, пандемия отчетливо показала существующий в стране дефицит аппаратов ИВЛ и кислорода, а также недостаточный уровень квалификации медицинского персонала в подборе эффективных схем лечения (Zimmermann et al., 2020; Gerasimov, 2022). Это в совокупности способствовало крайне высокой заболеваемости и смертности в первый год пандемии – одной из самых высоких в мире, а также привело к возникновению у населения отсроченных осложнений, в частности сердечно-сосудистых (Улумбекова, Гилоян, 2022).
Влияние развития здравоохранения и его эффективности на демографические тренды отмечали многие исследователи, подчеркивая, что чем выше уровень развития медицины, тем более благоприятную демографическую обстановку возможно ожидать. Здравоохранение оказывает благоприятное влияние на снижение уровня смертности населения, повышение продолжительности жизни и улучшение здоровья нации в целом (Иванова и др., 2021; Кривенко, 2021). Вместе с тем актуальные демографические тренды в наибольшей степени обусловлены иными неблагоприятными социально-экономическими факторами, в связи с чем здравоохранение выступает лишь в качестве одного из аспектов (Панькина, 2023).
Цель исследования – анализ состояния системы здравоохранения в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) и ее возможностей противостояния новым эпидемиологическим вызовам.
Методология и методы исследования
При проведении исследования были использованы статистические данные о состоянии здравоохранения в период 2014–2020 гг., а также показатели демографической ситуации в 2014–2022 гг. в России и регионах ЦФО. Выбор ЦФО в качестве объекта исследования обусловлен его главенствующим положением, определяемым высоким уровнем социально-экономического развития. В качестве базисного при проведении исследования был выбран 2014 год, что обусловлено изменениями, происходящими в отрасли здравоохранения, связанными с активизацией процессов оптимизации. В 2014 году была принята государственная программа «Развитие здравоохранения», которая определяла развитие здравоохранения в России в период до 2020 года в два этапа: 2013– 2015 гг. – связаны со структурными преобразованиями; 2016–2020 гг. – нацелены на развитие инновационного потенциала в здра-воохранении2. При этом данные за 2014 год отражают состояние отрасли до масштабных преобразований, в качестве индикативного года для сравнения был выбран 2017 год как отражающий первые результаты модернизации в отрасли, а в качестве отчетного периода для исследования рассмотрен 2020 год, характеризующий состояние здравоохранения к моменту окончания реализации принятой государственной программы и связанный с началом пандемии.
На первом этапе исследования рассмотрена динамика уровня смертности как индикатора результативности здравоохранения, оказывающего влияние на демографические показатели. Выбор данного индикатора обусловлен тем, что ключевой целью здравоохранения является снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения, в связи с чем уровень смертности можно рассматривать как показатель работы отрасли. Также рассматривается влияние пандемии на показатели заболеваемости и смертности от COVID-19, что косвенно характеризует результативность здравоохранения в неблагоприятных эпидемиологических условиях и показывает готовность отрасли к такого рода угрозам.
На втором этапе исследования проводится оценка финансового обеспечения здравоохранения в разрезе бюджетных и внебюджетных средств, являющихся основой финансового обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии со сформированной моделью финансирования отрасли, всего и в расчете на душу населения в России и регионах ЦФО, определяется состояние финансового обеспечения здравоохранения в ЦФО относительно общих по стране тенденций. Также рассматривается изменение объема инвестиций в основной капитал, направленных на развитие здравоохранения, всего и на душу населения, что отражает объем ресурсной поддержки качественных преобразований в отрасли.
На третьем этапе исследования в разрезе регионов ЦФО проводится сравнительный анализ базовых индикаторов функционирования отрасли – мощности амбулаторнополиклинических учреждений (АПУ), обеспеченности койками, врачами и средним медицинским персоналом (СМП), что отражает состояние здравоохранения до и после начала модернизации, а также на этапе начала пандемии.
Исследование проводилось с использованием ряда подходов и методов, среди которых в качестве основных выступают анализ рядов данных, статистические и общенаучные инструменты анализа, обобщение и интеллектуальный анализ данных.
Результаты
В период 2014–2017 гг. отмечено устойчивое снижение числа умерших в расчете на 1000 чел. населения на 0,7, а уже к 2020 году – рост уровня смертности на 2,2. В результате в 2020 году уровень смертности в стране вырос до 14,6 чел. на 1000 чел. населения. В 2021 году произошло увеличение уровня смертности до 16,7 чел. на 1000 чел. населения, что является пиковым уровнем и обусловлено высокой смертностью от коронавируса и его долгосрочных последствий. В 2022 году на фоне окончания пандемии смертность населения в стране снизилась до базисного значения – 13,1 на 1000 чел. населения (табл. 1).
В регионах ЦФО отмечена дифференциация уровня смертности, при этом тенденции изменения схожи с общероссийскими. Период 2014–2017 гг. в демографической политике регионов ЦФО можно назвать благоприятным, поскольку повсеместно фиксируется снижение уровня смертности, который варьировал в пределах 9,6–16,9 на 1000 чел. населения. В 2020–2021 гг. наблюдался устойчивый рост смертности во всех регионах округа, что выступает следствием проявлений пандемии коронавируса. В результате в 2021 году был достигнут пик уровня смертности, при этом самое высокое значение внутри ЦФО отмечено в Рязанской области (21,9 чел.
на 1000 чел. населения), а наименьшее – в Москве (13,9). К 2022 году общей тенденцией для всех регионов ЦФО стало снижение уровня смертности (в пределах 10,1–17,9 на 1000 чел. населения). Наименьший уровень смертности устойчиво отмечается в Москве, которая характеризуется большой численностью и, главное, плотностью населения, что сформировало благоприятные предпосылки для распространения вирусной инфекции. Однако низкий уровень смертности в совокупности с наиболее высоким уровнем социально-экономического развития города свидетельствует о том, что здесь система здравоохранения имеет высокую эффективность, чем и обусловлена низкая смертность при достаточно высокой заболеваемости.
Оценка уровня заболеваемости COVID-19 в России и регионах ЦФО говорит о том, что в 2020 году показатель был более чем в два раза ниже уровня 2021 года, ставшего пиком развития пандемии. Так, в среднем
Таблица 1. Динамика изменения уровня смертности в регионах ЦФО за период с 2014 по 2022 год
|
Субъект РФ |
Значение, чел. на 1000 чел. населения |
Абсолютное изменение |
|||||||
|
2014 год |
2017 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2017 год к 2014 году |
2020 год к 2017 году |
2021 год к 2020 году |
2022 год к 2021 году |
|
|
РФ, всего, млн чел. |
13,1 |
12,4 |
14,6 |
16,7 |
13,1 |
-0,7 |
2,2 |
2,1 |
-3,6 |
|
ЦФО, всего, млн чел. |
13,6 |
12,9 |
15,1 |
17,5 |
13,6 |
-0,7 |
2,2 |
2,4 |
-3,9 |
|
Тверская область |
17,8 |
16,9 |
18,5 |
21,5 |
17,9 |
-0,9 |
1,6 |
3,0 |
-3,6 |
|
Тульская область |
17,1 |
16,5 |
18,7 |
21,3 |
17,4 |
-0,6 |
2,2 |
2,6 |
-3,9 |
|
Орловская область |
16,4 |
15,8 |
18,4 |
20,8 |
17,2 |
-0,6 |
2,6 |
2,4 |
-3,6 |
|
Владимирская область |
16,6 |
15,7 |
18,3 |
21,5 |
17,1 |
-0,9 |
2,6 |
3,2 |
-4,4 |
|
Тамбовская область |
16,3 |
15,1 |
17,8 |
20,9 |
16,8 |
-1,2 |
2,7 |
3,1 |
-4,1 |
|
Ивановская область |
16,4 |
15,9 |
17,7 |
20,5 |
16,4 |
-0,5 |
1,8 |
2,8 |
-4,1 |
|
Курская область |
16,6 |
15,5 |
17,7 |
21,4 |
16,4 |
-1,1 |
2,2 |
3,7 |
-5,0 |
|
Рязанская область |
16,1 |
15,3 |
18,1 |
21,9 |
16,4 |
-0,8 |
2,8 |
3,8 |
-5,5 |
|
Смоленская область |
16,1 |
15,5 |
17,2 |
20,6 |
16,4 |
-0,6 |
1,7 |
3,4 |
-4,2 |
|
Ярославская область |
15,5 |
15,2 |
17,3 |
20,3 |
16,0 |
-0,3 |
2,1 |
3,0 |
-4,3 |
|
Костромская область |
15,8 |
14,9 |
16,7 |
20,2 |
15,9 |
-0,9 |
1,8 |
3,5 |
-4,3 |
|
Брянская область |
16,0 |
15,3 |
17,0 |
20,3 |
15,6 |
-0,7 |
1,7 |
3,3 |
-4,7 |
|
Воронежская область |
15,7 |
14,6 |
16,5 |
20,3 |
15,5 |
-1,1 |
1,9 |
3,8 |
-4,8 |
|
Липецкая область |
15,4 |
14,7 |
17,8 |
21,1 |
15,5 |
-0,7 |
3,1 |
3,3 |
-5,6 |
|
Калужская область |
15,3 |
14,8 |
17,3 |
19,3 |
15,2 |
-0,5 |
2,5 |
2,0 |
-4,1 |
|
Белгородская область |
14,0 |
13,5 |
15,6 |
18,2 |
14,3 |
-0,5 |
2,1 |
2,6 |
-3,9 |
|
Московская область |
13,8 |
12,3 |
14,5 |
16,3 |
13,0 |
-1,5 |
2,2 |
1,8 |
-3,3 |
|
г. Москва |
9,7 |
9,6 |
11,9 |
13,6 |
10,1 |
-0,1 |
2,3 |
1,7 |
-3,5 |
Рассчитано по: Социально-экономическое положение Центрального федерального округа в 2022 году: бюллетень. URL: https://rosstat.gov.ru/ storage/mediabank/cent_fo_4k-22.pdf (дата обращения 23.11.2023).
по стране в 2020 году уровень заболеваемости COVID-19 составлял 34 чел. на 1000 чел. населения, а к 2021 году вырос до 81 чел. на 1000 чел. населения. В ЦФО уровень заболеваемости заметно выше, чем в среднем по стране. При этом среди регионов округа лидерами по уровню заболеваемости в 2021 году стали Воронежская, Калужская и Владимирская области, где на 1000 чел. населения число случаев заболеваний превысило 105.
Несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией к 2021 году, в большинстве регионов, за исключением Москвы и Московской области, удалось добиться снижения числа смертей относительно уровня 2020 года, что свидетельствует о формировании эффективных подходов к борьбе с COVID-19 и его летальными осложнениями (табл. 2).
Здравоохранение является социально значимой отраслью в России и финансируется по сформированной бюджетно-страховой модели, в связи с чем финансовое обеспечение текущей деятельности осуществляется за счет средств фонда обязательного медицинского страхования (для работающего населения) и средств региональных бюджетов (для неработающего населения). При этом финансовое обеспечение модернизации мощностей здравоохранения и обновления материально-ресурсной базы, как правило, осуществляет за счет средств федерального бюджета посредством реализации различных госпрограмм развития здравоохранения, субсидий и дотаций регионам (Пантелеева, Астапенко, 2020).
Уровень финансового обеспечения здравоохранения во многом формирует ресурс-
Таблица 2. Динамика основных показателей заболеваемости и смертности от COVID-19 в России и регионах ЦФО за период с 2020 по 2021 год
|
Субъект РФ |
Заболеваемость COVID-19 |
Число зарегистрированных умерших с установленным диагнозом коронавирусной инфекции |
||||
|
значение, чел. на 1000 чел. населения |
изменение, 2021 год к 2020 году |
значение, чел. |
изменение, 2021 год к 2020 году |
|||
|
2020 год |
2021 год |
2020 год |
2021 год |
|||
|
РФ, всего |
33,9 |
81,0 |
47,1 |
49122 |
32408 |
-34,0 |
|
ЦФО, всего |
44,8 |
89,9 |
45,1 |
15023 |
12231 |
-18,6 |
|
Белгородская область |
19,6 |
66,7 |
47,1 |
581 |
170 |
-70,7 |
|
Брянская область |
25,7 |
63,9 |
38,2 |
409 |
45 |
-89,0 |
|
Владимирская область |
39,2 |
106,0 |
66,8 |
521 |
237 |
-54,5 |
|
Воронежская область |
43,8 |
110,0 |
66,2 |
838 |
607 |
-27,6 |
|
Ивановская область |
21,6 |
86,0 |
64,4 |
439 |
391 |
-10,9 |
|
Калужская область |
16,4 |
109,0 |
92,6 |
392 |
144 |
-63,3 |
|
Костромская область |
19,3 |
45,1 |
25,8 |
154 |
66 |
-57,1 |
|
Курская область |
21,6 |
52,9 |
31,3 |
747 |
67 |
-91,0 |
|
Липецкая область |
11,2 |
59,7 |
48,5 |
244 |
143 |
-41,4 |
|
Московская область |
52,9 |
103,7 |
50,8 |
3116 |
3324 |
6,7 |
|
Орловская область |
38,5 |
82,7 |
44,2 |
466 |
409 |
-12,2 |
|
Рязанская область |
24,9 |
67,5 |
42,6 |
463 |
107 |
-76,9 |
|
Смоленская область |
18,4 |
85,5 |
67,1 |
353 |
175 |
-50,4 |
|
Тамбовская область |
24,9 |
98,7 |
73,8 |
388 |
150 |
-61,3 |
|
Тверская область |
49,6 |
106,2 |
56,6 |
459 |
446 |
-2,8 |
|
Тульская область |
47,0 |
78,1 |
31,1 |
873 |
339 |
-61,2 |
|
Ярославская область |
32,3 |
89,3 |
57,0 |
446 |
160 |
-64,1 |
|
г. Москва |
61,9 |
89,8 |
27,9 |
4134 |
5251 |
27,0 |
Рассчитано по: Росстат. Заболеваемость COVID-19 в 2020–2021 гг. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/2023/04-19/ 3ChO60pb/RR_ pokaz_06-10_2022.xlsx (дата обращения 23.11.2023); Росстат. Естественное движение населения в разрезе субъектов Российской Федерации в 2020–2021 гг. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/EDN_09-2023.htm (дата обращения 23.11.2023).
ную базу отрасли и ее пропускную способность, поэтому остается одним из косвенных факторов создания благоприятной демографической ситуации в стране, позволяя снижать заболеваемость и смертность. Сохраняющееся долгие годы дефицитное состояние государственного бюджета способствовало уменьшению объема бюджетной финансовой поддержки социальных отраслей как менее приоритетных в актуальных экономических условиях. Необходимость экономии дефицитных средств в здравоохранении привела к поиску резервов повышения эффективности использования имеющихся ресурсов, что стало причиной сокращения «неэффективных» мощностей отрасли, тем самым позволив снизить объем финансирования (Айсханов, 2019; Соболева, 2021; Филина, 2022).
В итоге в 2014–2015 гг. общий объем расходов бюджета на здравоохранение превышал 1,3 трлн руб., а уже к 2017 году на фоне проводимой оптимизации удалось достичь сокращения финансового обеспечения отрасли более чем на треть – до 847,3 млрд руб. Период 2018–2019 гг. характеризуется ростом финансового обеспечения здравоохранения до 1,17 трлн руб., что вызвано пониманием ослабления потенциала и пропускной способности отрасли. Пандемия привела к существенному росту финансирования отрасли, в результате чего в 2020 году общий объем бюджетного финансового обеспечения здравоохранения в России превысил 2 трлн руб., что практически вдвое выше уровня предыдущего года.
Оценка в разрезе ЦФО показала аналогичные тенденции в изменении объема бюджетного финансирования здравоохранения, при этом здесь в 2014–2017 гг. спад отмечен в меньшей степени – на 22%, в то время как в целом по стране объем финансирования здравоохранения в период оптимизации сократился на 36%. В целом по ЦФО в период 2018–2019 гг. общий объем финансирования отрасли, как и в 2014 и 2019 гг., составлял чуть более 400 млрд руб., а в 2020 году на фоне пандемии вырос практически вдвое и составил 797,4 млрд руб.
Оценка объема финансового обеспечения отрасли здравоохранения за счет средств фонда ОМС показала, что в 2014 и 2017 гг. общий объем средств как в целом по стране, так и в ЦФО, увеличивался менее высокими темпами, а в 2020 году отмечен прирост показателя более чем на 40%, в результате чего общий объем средств фонда ОМС в России составил 2,49 трлн руб., из которых более 719 млрд руб. приходится на регионы ЦФО. Стоит отметить, что средства ОМС являются основным источником финансового обеспечения здравоохранения, поскольку во всем рассматриваемом периоде объем внебюджетных средств превышал поступления из бюджетов. Кроме того, объем средств ОМС устойчиво растет, что является следствием реализации сформированной страховой модели финансирования отрасли (табл. 3).
Объем инвестиций в основной капитал, направленных на развитие здравоохранения, в 2014 и 2017 гг. в целом по стране составлял менее 200 млрд руб., и только к 2020 году произошло практически двукратное увеличение инвестиционной поддержки развития отрасли. На фоне пандемии объем инвестиций в здравоохранение повысился до 580,1 млрд руб. В ЦФО объем инвестиций в отрасли рос более динамично как в 2017, так и в 2020 году, при этом к концу рассматриваемого периода показатель увеличился до 158 млрд руб. В расчете на душу населения общий объем инвестиций в развитие здравоохранения как в целом по РФ, так и в ЦФО находился практически на одном уровне и к 2020 году вырос до 4 тыс. руб. на чел.
Сравнительная оценка объема бюджетного финансирования здравоохранения в расчете на душу населения в целом по стране и в ЦФО показала, что в последнем уровень финансового обеспечения отрасли системно выше, чем в среднем по стране. Это также подтверждает сохранение территориальных диспропорций в распределении бюджетных средств между регионами и округами страны, где ЦФО как наиболее социально-экономически развитый округ получает более высокий уровень бюджетной поддержки. В 2014 году в расчете на душу на-
Таблица 3. Динамика финансового обеспечения здравоохранения в разрезе различных источников в целом по России и по ЦФО за период с 2014 по 2020 год
Объем средств фонда ОМС, направляемых на финансирование медицинской помощи в расчете на душу населения, в среднем по России в исследуемом периоде вырос с 9,9 до 17 тыс. руб., в ЦФО он заметно выше – 18,3 тыс. руб. на душу населения в 2020 году.
В конечном итоге ЦФО характеризуется наибольшим уровнем бюджетного финанси- рования здравоохранения и инвестиционной поддержки, что способствует формированию высокого ресурсного потенциала отрасли и должно положительно сказываться на результатах оказания медицинской помощи и ее эффективности. Поэтому оценка влияния результативности системы здравоохранения на положительное изменение демографической ситуации в России будет проводиться нами в разрезе регионов ЦФО как наиболее индикативного округа.
Внутри ЦФО также сохраняется заметная дифференциация уровня бюджетного финансирования здравоохранения в расчете на душу населения. При этом обобщенной тенденцией для всех регионов является снижение финансирования в 2017 году относительно уровня 2014 года, что также вызвано оптимизацией в отрасли. Наименьший спад к 2017 году зафиксирован в Москве и области – в пределах 15%. В период 2017–2020 гг. для большинства регионов ЦФО отмечен кратный прирост уровня объема бюджетного финансирования здравоохранения на душу населения, что является следствием увеличения финансового обеспечения отрасли в условиях пандемии коро- навируса. Лидирующие позиции по размеру бюджетного финансирования здравоохранения на душу населения занимают Москва и Московская область, при этом показатель по Москве существенно дифференцирован от показателей прочих регионов ЦФО, он составил 38,1 тыс. руб. в 2020 году, что втрое выше среднего по стране значения. Также более 10 тыс. руб. бюджетных средств в расчете на душу населения по итогам 2020 года зафиксировано в здравоохранении Тульской, Воронежской и Калужской областей. Еще в трех регионах финансирование здравоохранения на душу населения в 2020 году находилось в пределах 9–10 тыс. руб., в шести – в пределах 8–9 тыс. руб., а в оставшихся трех – менее 8 тыс. руб. Ранжирование регионов ЦФО по величине финансирования здравоохранения на душу населения показало, что с течением времени устойчивое положение сохранилось только для Москвы и Московской области (табл. 4).
В период проявления первых результатов оптимизации в здравоохранении, направ- ленной на перенос акцента на амбулаторнополиклиническое звено и сокращение мощности стационаров, отмечено снижение обеспеченности койками во всех регионах, за исключением Костромской области, где показатель сохраняется на стабильно высоком уровне – более 95 коек на 10 тыс. чел. населения. Среди прочих регионов ЦФО разброс уровня обеспеченности койками в 2014 году составлял 77–101 ед. на 10 тыс. чел. населения, а к 2017 году вариация показателя снизилась до 72–97 ед. на 10 тыс. чел. населения. При этом в наибольшей степени показатель обеспеченности койками уменьшился в Москве, Калужской и Ивановской областях. В период 2017–2020 гг. тенденция к дальнейшему сокращению обеспеченности койками сохранилась для 10 из 18 регионов ЦФО, при этом в наибольшей степени показатель снизился в Орловской области.
Одновременно с сокращением коечного фонда отмечена общая тенденция к росту пропускной способности АПУ для большинства регионов ЦФО. В 2020 году про-
Таблица 4. Динамика расходов консолидированного бюджета на здравоохранение в расчете на душу населения в регионах ЦФО за период с 2014 по 2020 год (в текущих ценах)
|
Регион ЦФО |
Значение, тыс. руб. на душу населения |
Изменение, % |
Место в ЦФО |
|||||
|
2014 год |
2017 год |
2020 год |
2017 год к 2014 году |
2020 год к 2017 году |
2014 год |
2017 год |
2020 год |
|
|
г. Москва |
16,7 |
14,8 |
38,1 |
-11,8 |
1,6 раза |
1 |
1 |
1 |
|
Московская область |
10,1 |
9,2 |
18,7 |
-9,7 |
104,0 |
2 |
2 |
2 |
|
Тульская область |
6,9 |
4,9 |
12,6 |
-29,4 |
1,6 раза |
8 |
3 |
3 |
|
Воронежская область |
6,9 |
3,3 |
10,9 |
-52,5 |
2,3 раза |
7 |
9 |
4 |
|
Калужская область |
7,7 |
4,0 |
10,3 |
-47,2 |
1,5 раза |
3 |
5 |
5 |
|
Ивановская область |
5,5 |
1,5 |
9,6 |
-72,5 |
5,3 раза |
17 |
18 |
6 |
|
Белгородская область |
6,3 |
3,8 |
9,3 |
-39,0 |
1,4 раза |
11 |
6 |
7 |
|
Курская область |
6,2 |
3,0 |
9,1 |
-51,5 |
2 раза |
13 |
12 |
8 |
|
Владимирская область |
5,9 |
3,7 |
8,9 |
-38,3 |
1,4 раза |
15 |
7 |
9 |
|
Тверская область |
7,1 |
3,5 |
8,7 |
-50,7 |
1,5 раза |
6 |
8 |
10 |
|
Ярославская область |
7,3 |
4,4 |
8,4 |
-39,3 |
89,5 |
4 |
4 |
11 |
|
Брянская область |
5,4 |
2,4 |
8,4 |
-56,2 |
2,5 раза |
18 |
16 |
12 |
|
Липецкая область |
7,2 |
3,2 |
8,3 |
-55,7 |
1,6 раза |
5 |
10 |
13 |
|
Орловская область |
6,8 |
3,2 |
8,0 |
-53,3 |
1,5 раза |
10 |
11 |
14 |
|
Рязанская область |
5,7 |
2,6 |
7,9 |
-54,3 |
2 раза |
16 |
15 |
15 |
|
Костромская область |
6,3 |
2,7 |
7,1 |
-57,4 |
1,7 раза |
12 |
14 |
16 |
|
Смоленская область |
6,0 |
2,7 |
6,5 |
-55,3 |
1,4 раза |
14 |
13 |
17 |
|
Тамбовская область |
6,8 |
2,0 |
6,3 |
-71,0 |
2,2 раза |
9 |
17 |
18 |
Рассчитано по: Электронное приложение к сборнику «Здравоохранение в России – 2021»: стат. сб. / Росстат. Москва, 2021. 171 с. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13218 (дата обращения 23.11.2023).
пускная способность амбулаторной сети на уровне более 300 посещений в смену в расчете на 10 тыс. чел. населения отмечалась только в пяти регионах; в 11 – в пределах 250–300 посещений в расчете на 10 тыс. чел. населения, и лишь только в Московской и Тверской области мощность АПУ составила менее 240 посещений в смену на 10 тыс. чел. населения. В результате в регионах ЦФО сохраняется существенная дифференциация по уровню обеспеченности койками и мощности АПУ, что свидетельствует о неравном уровне ресурсного потенциала и, следовательно, доступности услуг здравоохранения в рассматриваемых регионах (табл. 5).
В 2014–2017 гг. уровень обеспеченности врачами снизился в 10 из 18 регионов ЦФО, при этом лидером по числу врачей в расчете на 10 тыс. чел. населения остается Москва, а внутри округа сформировалась практически двукратная дифференциация показателя. Если в 2014 году разброс уровня обеспечен- ности врачами по регионам ЦФО составлял 33,8–66,1 чел. на 10 тыс. чел. населения, то к 2017 году снизился до 34,4–55,9 чел. на 10 тыс. чел. населения, что свидетельствует о заметном снижении уровня обеспеченности врачами в рамках оптимизации. В период 2017–2022 гг. в большинстве регионов округа отмечен рост уровня обеспеченности врачами, при этом наибольший прирост зафиксирован в Москве, где уровень обеспеченности врачами повысился до 70 чел. на 10 тыс. чел. населения. Устойчивая динамика к росту обеспеченности врачами в рассматриваемом периоде отмечается для таких регионов, как Московская, Орловская, Тамбовская, Тульская и Владимирская области. Оценка данных в динамике показывает, что обеспеченность врачами в регионах ЦФО находится на относительно стабильном уровне, обусловленном особенностями региональных систем здравоохранения (табл. 6).
Таблица 5. Динамика основных показателей мощности здравоохранения в регионах ЦФО за период с 2014 по 2020 год
|
Регион ЦФО |
Обеспеченность койками |
Мощность АПУ |
||||||||
|
значение, ед. на 10 тыс. чел. населения |
абсолютное изменение |
значение, посещений на 10 тыс. чел. населения |
абсолютное изменение |
|||||||
|
2014 год |
2017 год |
2020 год |
2017 год к 2014 году |
2020 год к 2017 году |
2014 год |
2017 год |
2020 год |
2017 год к 2014 году |
2020 год к 2017 году |
|
|
Владимирская область |
84,8 |
83,4 |
84,4 |
-1,4 |
1,0 |
328,7 |
352,0 |
361,6 |
23,3 |
9,6 |
|
Липецкая область |
83,5 |
82,0 |
83,2 |
-1,5 |
1,2 |
337,3 |
342,4 |
353,2 |
5,1 |
10,8 |
|
г. Москва |
78,6 |
62,1 |
71,6 |
-16,5 |
9,5 |
316,5 |
309,3 |
328,0 |
-7,2 |
18,7 |
|
Смоленская область |
99,5 |
95,1 |
94,4 |
-4,4 |
-0,7 |
280,3 |
296,2 |
303,8 |
15,9 |
7,6 |
|
Брянская область |
83,7 |
75,2 |
75,5 |
-8,5 |
0,3 |
272,3 |
284,8 |
300,6 |
12,5 |
15,8 |
|
Калужская область |
91,2 |
75,2 |
84,0 |
-16 |
8,8 |
258,6 |
281,2 |
299,8 |
22,6 |
18,6 |
|
Тамбовская область |
82,4 |
76,7 |
73,9 |
-5,7 |
-2,8 |
263,6 |
276,3 |
295,5 |
12,7 |
19,2 |
|
Орловская область |
98,7 |
90,9 |
78,0 |
-7,8 |
-12,9 |
264,3 |
275,0 |
293,4 |
10,7 |
18,4 |
|
Ярославская область |
100,8 |
91,8 |
91,5 |
-9,0 |
-0,3 |
268,0 |
270,9 |
290,5 |
2,9 |
19,6 |
|
Костромская область |
95,8 |
96,5 |
96,3 |
0,7 |
-0,2 |
258,7 |
276,6 |
289,4 |
17,9 |
12,8 |
|
Тульская область |
87,3 |
86,4 |
86,1 |
-0,9 |
-0,3 |
249,4 |
261,5 |
274,1 |
12,1 |
12,6 |
|
Рязанская область |
80,8 |
78,7 |
77,1 |
-2,1 |
-1,6 |
252,8 |
257,7 |
273,8 |
4,9 |
16,1 |
|
Курская область |
86,8 |
84,4 |
86,7 |
-2,4 |
2,3 |
247,6 |
257,9 |
272,5 |
10,3 |
14,6 |
|
Белгородская область |
80,4 |
73,0 |
69,5 |
-7,4 |
-3,5 |
242,6 |
243,3 |
271,8 |
0,7 |
28,5 |
|
Ивановская область |
96,1 |
80,6 |
82,2 |
-15,5 |
1,6 |
230,1 |
245,8 |
256,7 |
15,7 |
10,9 |
|
Воронежская область |
91,9 |
82,2 |
79,1 |
-9,7 |
-3,1 |
240,1 |
254,0 |
255,7 |
13,9 |
1,7 |
|
Тверская область |
97,8 |
93,4 |
92,0 |
-4,4 |
-1,4 |
225,8 |
228,2 |
239,9 |
2,4 |
11,7 |
|
Московская область |
76,8 |
72,0 |
84,0 |
-4,8 |
12,0 |
214,5 |
209,5 |
239,7 |
-5,0 |
30,2 |
Рассчитано по: Электронное приложение к сборнику «Здравоохранение в России – 2021»: стат. сб. / Росстат. Москва, 2021. 171 с. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13218 (дата обращения 23.11.2023).
Таблица 6. Динамика основных показателей кадрового обеспечения здравоохранения в регионах ЦФО за период с 2014 по 2020 год
|
Регион ЦФО |
Обеспеченность врачами |
Обеспеченность СМП |
||||||||
|
значение, чел. на 10 тыс. чел. населения |
абсолютное изменение |
значение, чел. на 10 тыс. чел. населения |
абсолютное изменение |
|||||||
|
2014 год |
2017 год |
2020 год |
2017 год к 2014 году |
2020 год к 2017 году |
2014 год |
2017 год |
2020 год |
2017 год к 2014 году |
2020 год к 2017 году |
|
|
г. Москва |
66,1 |
55,9 |
69,9 |
-10,2 |
14 |
92,8 |
83,3 |
90,3 |
-9,5 |
7,0 |
|
Ярославская область |
57,7 |
52,8 |
55,2 |
-4,9 |
2,4 |
106,8 |
102,0 |
95,0 |
-4,8 |
-7,0 |
|
Рязанская область |
52,1 |
50,7 |
54,0 |
-1,4 |
3,3 |
108,9 |
107,9 |
108,5 |
-1,0 |
0,6 |
|
Курская область |
51,8 |
49,6 |
52,7 |
-2,2 |
3,1 |
116,3 |
113,3 |
111,3 |
-3,0 |
-2,0 |
|
Воронежская область |
54,1 |
51,7 |
52,3 |
-2,4 |
0,6 |
113,3 |
111,1 |
107,2 |
-2,2 |
-3,9 |
|
Смоленская область |
54,5 |
52,1 |
51,0 |
-2,4 |
-1,1 |
106,8 |
104,4 |
99,9 |
-2,4 |
-4,5 |
|
Московская область |
38,1 |
38,2 |
46,5 |
0,1 |
8,3 |
75,8 |
76,5 |
81,3 |
0,7 |
4,8 |
|
Тверская область |
47,7 |
45,7 |
45,9 |
-2,0 |
0,2 |
102,5 |
101,7 |
94,2 |
-0,8 |
-7,5 |
|
Ивановская область |
48,2 |
43,8 |
45,4 |
-4,4 |
1,6 |
107,2 |
102,7 |
98,7 |
-4,5 |
-4,0 |
|
Орловская область |
43,0 |
44,9 |
45,2 |
1,9 |
0,3 |
114,0 |
118,2 |
115,6 |
4,2 |
-2,6 |
|
Калужская область |
40,7 |
40,5 |
43,1 |
-0,2 |
2,6 |
97,8 |
99,2 |
100,0 |
1,4 |
0,8 |
|
Тамбовская область |
34,6 |
37,7 |
42,4 |
3,1 |
4,7 |
102,9 |
108,9 |
112,1 |
6,0 |
3,2 |
|
Липецкая область |
42,7 |
42,0 |
41,2 |
-0,7 |
-0,8 |
118,0 |
114,0 |
113,3 |
-4,0 |
-0,7 |
|
Брянская область |
37,1 |
40,7 |
40,5 |
3,6 |
-0,2 |
114,3 |
117,1 |
112,9 |
2,8 |
-4,2 |
|
Белгородская область |
40,7 |
41,1 |
40,4 |
0,4 |
-0,7 |
112,8 |
109,4 |
105,0 |
-3,4 |
-4,4 |
|
Тульская область |
34,6 |
37,0 |
39,9 |
2,4 |
2,9 |
101,5 |
101,5 |
100,6 |
- |
-0,9 |
|
Костромская область |
35,2 |
37,4 |
36,9 |
2,2 |
-0,5 |
116,8 |
115,5 |
112,3 |
-1,3 |
-3,2 |
|
Владимирская область |
33,8 |
34,4 |
36,5 |
0,6 |
2,1 |
92,0 |
98,4 |
92,3 |
6,4 |
-6,1 |
Рассчитано по: Электронное приложение к сборнику «Здравоохранение в России – 2021»: стат. сб. / Росстат. Москва, 2021. 171 с. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13218 (дата обращения 23.11.2023).
По уровню обеспеченности СМП в регионах ЦФО также отмечено сохранение заметной дифференциации, при этом к 2017 году в 11 из 18 регионов произошло сокращение обеспеченности населения СМП, а в 2020 году отрицательная динамика зафиксирована в 13 регионах округа. Оценка данных в динамике показывает, что вариация уровня обеспеченности СМП по годам является более существенной по сравнению с обеспеченностью врачами. Кроме того, внутри округа положение регионов по уровню обеспеченности СМП также меняется: если в 2014 году лидером по числу СМП на 10 тыс. чел. населения была Липецкая область, то в 2017 и 2020 гг. лидирующую позицию заняла Орловская область. Системно самый низкий уровень обеспеченности СМП внутри округа сохраняется в Московской области.
По результатам анализа основных показателей мощности и обеспеченности кадрами региональных систем здравоохранения можно сделать вывод о том, что осуществляемая в период 2014–2017 гг. оптимизация привела к заметному повсеместному сокращению ресурсного потенциала отрасли. Несмотря на то, что к 2020 году по ряду индикаторов наметилось улучшение ситуации и наращивание мощностей, начавшаяся пандемия показала, что система здравоохранения практически во всех регионах характеризуется низкой пропускной способностью и не готова к такой нагрузке. В условиях повышенной нагрузки на отрасль на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки сниженный в результате оптимизации потенциал даже в условиях притока бюджетного финансирования не мог быть оперативно увеличен, что привело к снижению медицинской эффективности отрасли – высокой заболеваемости и смертности от COVID-19. Это оказало негативное влияние на и без того непростую демографическую ситуацию.
Заключение
Исследование состояния здравоохранения в регионах ЦФО до и в период пандемии в сравнении с демографическими показателями в данный период и после, позволило выявить, что только Москве, несмотря на высокую численность и плотность населения, удалось минимизировать смертность от COVID-19, что во многом является следствием значительной финансовой поддержки регионального здравоохранения и сформированной эффективной системы оказания медицинской помощи. В других регионах ЦФО предшествующее снижение ресурсного потенциала здравоохранения стало одним из факторов краткосрочных неблагоприятных демографических последствий, наиболее ярко проявившихся в 2021 году, когда численность населения заметно сократилась за счет более высокой смертности. В 2022 году на фоне окончания мировой пандемии произошло естественное снижение смертности в стране, но при этом в условиях более низкой рождаемости численность населения стала увеличиваться в основном за счет усиления миграционных процессов. Это по- зволяет говорить, что фактически система здравоохранения, на которую возлагается главенствующая роль по охране здоровья граждан, в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки оказалась малоэффективной и не имела определяющего положительного влияния на естественное движение населения и минимизацию демографических последствий для страны.
Опыт пандемии отразил наличие ряда системных проблем в отрасли, которые препятствовали более эффективной борьбе с COVID-19. В связи с этим остается риск повышения роста заболеваемости и смертности населения при возникновении новых эпидемиологических угроз, хотя был сделан ряд шагов для улучшения ситуации. Мы полагаем, что на основе учета опыта пандемии необходимо проводить мероприятия по совершенствованию системы здравоохранения в России, при этом акцент делать на организационных мероприятиях, поскольку наряду с финансовым обеспечением эффективное управление является одним из факторов обеспечения результативности отрасли.
Список литературы Состояние системы здравоохранения в регионах Центрального федерального округа в контексте социально-экономических вызовов
- Айсханов С.К. (2019). О недостаточности финансирования системы здравоохранения в России // Colloquium-Journal. № 7-1 (31). С. 30–31.
- Власова О.В. (2020). Управление коечным фондом как инструмент повышения качества медицинских услуг // Азимут научных исследований: экономика и управление. Т. 9. № 1 (30). С. 122–125. DOI: 10.26140/anie-2020-0901-0029
- Городюк Е.В. (2022). Оптимизация системы управления в организациях здравоохранения // Вестник науки и образования. № 4-1 (124). С. 38–40.
- Зюкин Д.А. (2020). Оптимизация экономических ресурсов в системе здравоохранения как угроза снижения качества и доступности медицинской помощи // Вестник Курской гос. с.-х. академии. № 8. С. 69–76.
- Иванова А.Е., Семенова А.Е., Сабгайда Т.П. (2021). Резервы снижения смертности в России, обусловленные эффективностью здравоохранения // Вестник Российской академии наук. Т. 91. № 9. С. 865–878. DOI: 10.31857/S086958732109005X
- Калининская А.А., Коновалов О.Е., Мерекина М.Д. [и др.] (2020). Стационарзамещающие технологии: состояние и стратегические задачи развития // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. Т. 28. № 3. С. 438–443. DOI: 10.32687/0869-866X-2020-28-3-438-443
- Карайланов М.Г., Михеев А.В., Прокин И.Г. (2023). Стационарозамещающие формы оказания медицинской помощи в условиях COVID-19 // Вестник медицинского института «РЕАВИЗ»: реабилитация, врач и здоровье. Т. 13. № 3. С. 13–17. DOI: 10.20340/vmi-rvz.2023.3.COVID.1
- Карпова О.Б., Загоруйченко А.А. (2022). Особенности состояния сети и обеспеченности коечным фондом медицинских организаций в России // Менеджер здравоохранения. № 1. С. 16–23. DOI: 10.21045/1811-0185-2022-1-16-23
- Климова Ю.А. (2021). Оптимизация системы здравоохранения // Социология в современном мире: наука, образование, творчество. № 13. С. 91–93.
- Кривенко Н.В. (2021). Роль системы здравоохранения в развитии благоприятных социально-демографических трендов в России // Международный научно-исследовательский журнал. № 11-3 (113). С. 169–173. DOI: 10.23670/IRJ.2021.113.11.108
- Пантелеева М.В., Астапенко В.В. (2020). Финансирование здравоохранения в Российской Федерации: проблемы и пути решения // Аспирант. № 5 (56). С. 259–263.
- Панькина Н. С. (2023). Актуальные проблемы демографической политики РФ и их пути реализации в условиях сложившейся экономической и политической ситуации // Экономика и бизнес: теория и практика. № 1-2 (95). С. 58–61. DOI: 10.24412/2411-0450-2023-1-2-58-61
- Репринцева Е.В. (2020). Анализ показателей больничной сети системы здравоохранения РФ // Азимут научных исследований: экономика и управление. Т. 9. № 2 (31). С. 281–284. DOI: 10.26140/anie-2020-0902-0066
- Репринцева Е.В., Сергеева Н.М. (2018). Сравнительная оценка коечного фонда в Российской Федерации и странах Европы // Региональный вестник. № 6 (15). С. 2–3.
- Сергеева Н.М. (2018). Об организационно-экономических причинах сокращения величины коечного фонда в России // Иннов: электронный научный журнал. № 6 (39). С. 20.
- Соболева Е.А. (2021). Бюджетно-страховая модель финансирования здравоохранения в России // Финансы: теория и практика. Т. 25. № 3. С. 127–149. DOI: 10.26794/2587-5671-2021-25-3-127-149
- Улумбекова Г.Э., Гиноян А.Б. (2022). Уроки пандемии COVID-19 для здравоохранения России // Научные труды Вольного экономического общества России. Т. 234. № 2. С. 54–86. DOI: 10.38197/2072-2060-2022-234-2-54-86
- Филина М.А. (2022). Современные проблемы финансирования здравоохранения в России // Экономика и предпринимательство. № 8 (145). С. 125–128. DOI: 10.34925/EIP.2022.145.8.023
- Boglaeva L., Kemaikina K. (2020). Optimization of the Healthcare Network in the Russian Federation. SSRN. 29 August. DOI: 10.2139/ssrn.3683014. Available at: https://ssrn.com/abstract=3683014 (accessed 23.11.2023).
- Gerasimov A.V. (2022). Healthcare as a priority national project of Russia: Problems of public administration. EC Psychology and Psychiatry, 11 (5), 44–50.
- Maltsev V.V. (2023). Decentralized response as a pandemic second-best: The case of Russia. Southern Economic Journal, 90 (2), 291–316. DOI: 10.1002/soej.12653
- Pospelova S.I., Kamenskaya N.A., Posadkova M.V. [et al.] (2020). COVID-19 in Russia: Novels of legal regulation of healthcare. Medicine and Law, 39 (2), 291–314.
- Storey D. (2023). Global health interventions. In: The International Encyclopedia of Health Communication. Eds. E.Y. Ho, C.L. Bylund, J.C.M. van Weert [et al.]. DOI: 10.1002/9781119678816.iehc0847
- Tagaeva T., Kazantseva L. (2020). Social impacts of health care reforms in Russia. E3S Web of Conferences. DOI: 210. 17011. 10.1051/e3sconf/202021017011. Available at: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/70/e3sconf_itse2020_17011/e3sconf_itse2020_17011.html (accessed 23.11.2023).
- Wang L., Yan B., Boasson V. (2020). A national fight against COVID-19: Lessons and experiences from China. Australian and New Zealand Journal of Public Health, 44, 502–507. Available at: https://doi.org/10.1111/1753-6405.13042
- Zimmermann K.F., Karabulut G., Bilgin M.H., Doker A.C. (2020). Inter-country distancing, globalisation and the coronavirus pandemic. The World Economy, 43, 1484–1498. DOI: 10.1111/twec.12969