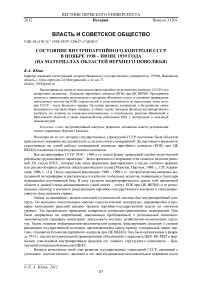Состояние внутрипартийного контроля СССР в ноябре 1938 – июне 1939 года (на материалах областей Верхнего Поволжья)
Автор: Юдин Кирилл Александрович
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Власть и советское общество
Статья в выпуске: 3 (20), 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается однин из эпизодов истории партийно-политического контроля СССР и его конкретного ведомства – Комиссии партийного контроля (КПК) при ЦК ВКП(б). Предпринята попытка с привлечением регионального материала обозначить статус и основные направления деятельности институтов КПК (партколлегий и уполномоченного) на переломном этапе истории СССР – после Большого террора. На основе архивных материалов, в большинстве своем вводящихся в научный оборот впервые, в общих чертах показаны функции внутрипартийного контроля, его влияние на социально-экономическое и политическое развитие Ивановской и Ярославской областей, а также взаимодействие работников КПК с центральной и локальной номенклатурой.
Внутрипартийный контроль, репрессии, механизмы власти, региональная модель управления, верхнее поволжье
Короткий адрес: https://sciup.org/147203440
IDR: 147203440 | УДК: 94
Текст научной статьи Состояние внутрипартийного контроля СССР в ноябре 1938 – июне 1939 года (на материалах областей Верхнего Поволжья)
Несмотря на то что история государственных учреждений СССР постоянно была объектом пристального внимания исследователей, ее нельзя считать исчерпанной. До настоящего времени не существовало ни одной работы, посвященной комиссии партийного контроля (КПК) при ЦК ВКП(б) и аспектам ее институциональных контактов.
Вся историография СССР 1930 - 1940-х гг. имела форму прикладной идейно-политической рефлексии «руководящего характера»1. Затем произошло отторжение этих сюжетов на волне решений ХХ съезда КПСС, которые уже лишь формально фиксировались в трудах учебного формата или сводно-обзорных работах общетеоретического плана [Морозов, Портнов, 1984, с. 129; Коржи-хина, 1986, с. 141]. После «архивной революции» 1980 - 1990-х гг. эта проблематика оказалась вытесненной на периферию и растворилась в изобилии глобальных аспектов, появившихся благодаря открывшейся источниковой базе. В силу скудного историографического задела этой предметной области в данной статье рассматривается узкий аспект – статус КПК при ЦК ВКП(б) и ее региональных структур в контексте реорганизации партийно-государственного контроля в «пострепрессивную» фазу развития страны.
Одним из важнейших звеньев советской политической системы был внутрипартийный контроль. Он выполнял ответственную миссию «идеологической экспертизы», выражавшейся в проверке выполнения решений высших органов партийно-государственной власти на «низовом уровне». Это предполагало проведение конкретных контрольно-ревизионных мероприятий. Они были направлены на оперативный, максимально приближенный к региональной социальноэкономической специфике мониторинг деятельности местных хозяйственно-политических структур. Таким мощным информационно-аналитическим центром, фиксирующим сведения о степени реализации государственной политики, преломляющейся сквозь призму «генеральной линии партии», становится Комиссия партийного контроля при ЦК ВКП(б). Она была организована в феврале 1934 г. как институциональный правопреемник объединенного наркомата ЦКК–НК РКИ и формально унаследовала внутрипартийные функции его главного структурного компонента - Центральной контрольной комиссии (ЦКК)2.
Начался качественно иной этап развития государственных учреждений СССР, связанный с усилением идеологического давления в его институционально-исполнительном выражени после
ликвидации «двойного подчинения» и периода поверхностного инспектирования. Об этом настойчиво повторял и сам И.В. Сталин, и затем сотрудники КПК. «Нам нужна теперь не инспекция, – говорил Сталин на XVII cъезде ВКП(б), – а проверка исполнения решений центра. – …Такой организацией может быть только Комиссия партийного контроля при ЦК ВКП(б), работающая по заданиям партии и ее ЦК»3. Начальник Секретариата КПК при ЦК ВКП(б) В.И. Богушевский неоднократно в своих статьях разъяснял, чтобы пресечь все сомнения на этот счет: «У некоторых работников существует ошибочное представление, будто сущность реорганизации заключается в том, что функции ЦКК РКИ поделены между Партконтролем и Совконтролем. Это неверно: в Комиссию советского контроля преобразована не РКИ, а Комиссия исполнения. РКИ же ликвидирована, ибо инспектирование – основная функция РКИ – отпала»4.
Взамен функционально-распыленного инспектирования была создана система тщательного надзора за каждым шагом региональной администрации. В 1934 - 1938 гг. на республиканском, краевом, областном уровнях существовала сеть специальных резидентов КПК – уполномоченных и партколлегий (ПК). Они обладали широкими не зависимыми от «легальных» органов партийной власти полномочиями по проверке «партийно-комсомольского актива» на предмет политической благонадежности в рамках судебно-следственной работы по рассмотрению апелляций в связи с наложением партийного взыскания, а также по обследованию хозяйственных объектов – фабрик, заводов, контор и т.п. Если партколлегии стали в буквальном смысле местоблюстителями Устава ВКП(б), орудием «классовой чистоты», призванные никогда не забывать про свою основную функцию – вести «непримиримую борьбу со всеми классовыми врагами партии, с чуждыми элементами, обманным путем пробравшимися в партию», особое внимание уделять рассмотрению дел, связанных с «враждебными вылазками остатков контрреволюционного троцкизма, правых и “левых” оппортунистов, буржуазного национализма и великодержавного шовинизма»5, то уполномоченные должны были «откликаться на все острые вопросы»6, сочетая ориентацию на идейно-политическую актуальность с «сезонностью некоторых важнейших хозяйственных операций»7.
В преддверии и в годы Большого террора области деятельности уполномоченного и партколлегии как никогда ранее сблизились на главном направлении – в работе по сбору компрометирующих партийно-советскую номенклатуру материалов. Они приняли непосредственное участие в дискредитации, смещении, закончившихся физическим устранением региональной политической элиты. Были репрессированы первые секретари Ивановского обкома ВКП(б) И.П. Носов (январь 1932 – август 1937), В.Я. Симочкин (август 1937 – июль 1938), второй секретарь Л.И. Ковалев, третий – Д.С. Епанечников, заведующий отделом пропаганды обкома партии И.М. Михайлов, председатель Ивановского облисполкома С.П. Аггеев, первый секретарь обкома ВЛКСМ З.Д. Адмиральская; председатель организационного бюро ЦК ВКП(б) по Ярославской области (март 1936 – январь 1937), а затем первый секретарь Ярославского обкома и горкома ВКП(б) (январь – июнь 1937) А.Р. Вайнов, следующий первый секретарь обкома Н.Н. Зимин (июнь 1937 – февраль 1938), второй секретарь Г.А. Полумордвинов, председатель облисполкома Г.Г. Заржицкий, его заместитель А.В. Хлыбов и многие другие [Верой и правдой…, 2001, с. 228 - 253; Из истории органов…, 2008, с. 243 257].
Отмена чрезвычайно-мобилизационного режима, сложившегося в период массовых политических репрессий, и курс на «стабилизацию» серьезным образом повлияли на состояние внутрипартийного контроля, который стал ближайшим объектом грядущей «реконверсии» – возвращения административного приоритета «легальным» органам партийной власти на местах – комитетам ВКП(б).
В отличие от ведомства подчеркнуто агрессивно-силового предназначения, такого как НКВД, привыкшего к бесцеремонному доминированию, процесс сокращения прерогатив КПК в регионах проходил в мягкой, имплицитной форме, опираясь на черты, внутренне присущие родственным по функционально-организационному облику учреждениям, а также на формы их взаимодействия.
В Ивановской области в это время действовал и уполномоченный, и ответственный секретарь ПК в лице И.Я. Кровякова. В Ярославской области существовала ПК под руководством Ф.Н. Антипова.
Вполне распространенной практикой, сложившейся еще в годы Большого террора было привлечение инструкторов обкома и ОРПО, в частности, на заседания парттроек, созывавшихся ПК
КПК, как для ускорения делопроизводства, так и в период вынужденных кадровых замен из-за отсутствия тех или иных штатных работников. Так, в Ярославской области бывший ответственный секретарь ПК КПК В.П. Грузель во время болезни члена ПК А.Я. Фридрихсон и призыва на сборы в ряды РККА партследователя М.Г. Гронзова к работе в ПК привлекал заведующего сельскохозяйственным отделом обкома Рудне, заместителя заведующего ОРПО Великосельцева8. В Иванове бывший ответственный секретарь ПК КПК А.Г. Ипатов в июле 1938 г. даже обратился с просьбой отправить в его распоряжение 6-8 человек из числа работников обкома, парткомов отдельных предприятий, НКВД, поскольку с уходом члена ПК С.Ф. Минина в армию, а члена ПК Болдыревой – в отпуск по болезни фактически оставался в партколлегии один. Обком удовлетворил прошение Ипатова, направив в ПК даже 9 человек: А.Г. Бережкова, Е.С. Герасимова, И.Г. Кривоноса – из УНКВД, Е.С. Мельцер, Барсукова, А.А. Попова – из обкома, М.О. Горбунова, Е.Ф. Корчагина, М.В. Почкина - фабрики имени 8 марта, Меланжевого комбината и фабрики НИМ9.
Кроме того, еще начиная с 1934 г. партколлегия для оперативного разбора дел регулярно набирала внештатных сотрудников, многие из которых являлись бывшими работниками контрольных комиссий или членами партийных организаций, совмещающими основное место работы с дополнительной нагрузкой в партколлегии. Из «внештатников» нередко формировали низовые дивизионные парттройки, которые, как и ранее, успешно выполняли функцию первичной инстанции следственно-дознавательного типа, сохраняя верность «традиционным» формам советской юстиции [Иванцов, 2011, с. 163 - 164].
Немаловажным обстоятельством было и то, что очередная реорганизация сети контрольных ведомств проходила по сугубо внутриполитическим каналам, что не предусматривало обнародование сведений, которые могли бы заставить широкую общественность усомниться в утрате доверия к авторитетным учреждениям, либо преподносилась как естественноисторическая и «вызов времени». В таком ключе было выдержано постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 22 августа 1938 г. «О некоторых мероприятиях в связи с итогами выборов руководящих партийных органов», в котором местным комитетам ВКП(б) было дано указание в месячный срок укомплектовать штаты инструкторов, а также восстановить практику заслушивания отчетов РК и ГК обо всей их работе10, что было вполне обычной в прошлом практикой. Зато приоритет ОРПО, а затем организационноинструкторских отделов11, по отношению к партколлегиям и уполномоченным был организационно закреплен в декабре 1938 г. сугубо внутренним циркуляром, ограничивающим информационную самостоятельность структур КПК, до этого пользовавшихся возможностью ускоренного принятия решений, без учета позиции обкома по тому или иному вопросу12.
Внешне изменение политики по отношению к верно служившим «тайным канцеляриям» на местах было выражено лишь на ХVIII cъезде ВКП(б), на котором под лозунги о создании «морально-политического единства советского народа» [История КПСС…, 1982, с. 319] правительственный курс был скорректирован в сторону дальнейшей централизации вертикали власти, что проявилось в сохранении лишь верхних этажей административного корпуса КПК – бюро и Партколлегии во главе с новым председателем А.А. Андреевым13. Централизация партийно-государственных структур мыслилась как форма внутренней «разрядки», ставшей возможной благодаря успешно проведенной «чистке», позволившей осуществить очередную рационализацию управления.
В силу этого можно утверждать, что процедура и процесс упразднения региональных филиалов КПК в июне 1939 г. прошли безболезненно, а сама деятельность аппарата КПК до описываемых событий протекала в прежнем ритме. В этом можно убедиться, обратившись к конкретным примерам функциональной дееспособности институтов КПК в Ивановской и Ярославской областях.
Одним из примечательных дел, которое рассматривал уполномоченный КПК при ЦК ВКП(б) по Ивановской области в ноябре - декабре 1938 г., было дело о руководстве Ивановской областной конторы «Главнефтьсбыт». Представители Шуйского горторга жаловались на управляющего Шарова потому, что он якобы виноват в нарушении режима завоза керосина в город. Как утверждают недовольные товарищи Тюрин и Частухин, областная контора в Шую керосин не завозит, а заставляет возить его из Иванова и к тому же «незаконно» требует выставления аккредитивов. Тщательно разобравшись в предмете разногласия сторон, ответственный контролер Тупицын пришел к выводу о необоснованности претензий к областной конторе, поскольку обвинения в адрес Шарова «ничем, кроме разговоров не подтверждаются». Кроме того, «Главнефть» осветительный керосин торгую- щим организациям не поставляет, этим занимается Наркомторг РСФСР. Таким образом, в неправильном снабжении виноваты облторготдел, облторг и облпотребсоюз. Именно они «не уделяют торговле керосином никакого внимания, кроме канцелярско-бюрократической писанины, чтобы скрыть свою бездеятельность». Что касается аккредитивов, то, как оказалось, «Главнефть» имеет законное право требовать их от тех торгов, которые не платят деньги14.
В Ярославле, Рыбинске, Костроме, Гаврило-Ямском, Судиславском районах в это же время проводилась комплексная проверка управления колхозными рынками. В ходе проверки были зафиксированы грубые нарушения правил торговли и оценки качества продукции, в частности, один работник мясоконтрольной станции в день принимал 350 колхозников, представивших для контроля в целом до 20 тонн продуктов15.
В 1939 г. институты КПК оказались в центре насыщенных по идейному содержанию и динамике событий, связанных с реальным оживлением партийной жизни, – кампании по борьбе клеветниками и ложными обвинениями. Партколлегии КПК, судя по риторике многочисленных истцов, выступали как авторитетные арбитры, восстанавливающие доброе имя честного человека и преданного партии коммуниста. «Будучи закаленным большевистской выдержкой, – писал в марте 1939 г. в КПК по Ивановской области Н.А. Столбунов, арестованный 10 октября 1937 г. с санкции прокурора Тейковского района, – я покорно ожидал своей участи вот уже 18 месяцев. Но пределы человеческого терпения имеют границы. Волокита в окончательном решении моего дела, преклонные года и моральные унижения вынудили меня обратиться с просьбой – оказать возможное от вас влияние, чтобы положить конец судейской следственной волоките и окончательно разобрать мое дело»16.
После съезда партии участились случаи «обратных» разоблачений в рамках борьбы с «натасканными и необоснованными обвинениями», особенно на «низовом уровне». Так, на основании апелляции, поданной в ПК по Ярославской области в связи с исключением из кандидата в члены ВКП(б) Л.М. Курочкиной, была поставлена под сомнение правильность политической линии всего Солигаличского РК ВКП(б) и его первого секретаря Васильчикова, который «не хотел исправлять допущенные ошибки и игнорировал неоднократные указания ЦК о чуткости к коммунистам»17. После вмешательства ответственного секретаря ПК КПК Ф.Н. Антипова вопрос о поведении т. Васильчикова был поставлен на бюро обкома. Вместе с Л.М. Курочкиной были восстановлены в партии ранее исключенный за вредительство заведующий райзо Краснов, его заместитель Жигалов, бывший председатель РИКа Громов, заведующая райфо Дорохина18. Продолжался процесс возвращения документов ранее реабилитированным в партийном отношении лицам, так, по линии партколлегии из 771 человек, подавших апелляции за январь – ноябрь 1938, 458 были восстановлены в партии19.
Отход от чрезвычайно ускоренных процедур администрирования позволил институтам КПК более тщательно, детально и конструктивно рассмотреть вопросы функционирования некоторых советских органов, которые ранее просто оставались незамеченными или отодвинутыми на второй план в связи с кадровой чехардой, порожденной репрессиями. Например, в ходе обследования Суздальского городского совета, проведенного ответственным контролером Л.Ш. Манусовым в феврале - апреле 1939 г., КПК по Ивановской области, а затем и обком получили возможность убедиться в бездеятельности отдельных подразделений этого учреждения, в его фиктивнопредставительском характере. Из 136 членов горсовета, избранных туда в 1934 - 1935 гг., к 1939 г. осталось только 89. Это привело к тому, что в некоторых секциях (ликвидации неграмотности, связи, сельского пригородного хозяйства) осталось по 2-3 человека, и многие из них даже не знали о своем членстве и поэтому, естественно, секции ни разу не собирались20.
По-прежнему важную роль играли институты КПК в проведении сельскохозяйственной политики СССР. В своем письме от 14 декабря 1938 г. заместитель председателя КПК при ЦК ВКП(б) М.Ф. Шкирятов настойчиво призывал сотрудников внутрипартийного контроля расширить содержательную сторону докладных записок по сельскому хозяйству за счет более тщательного и подробного информирования о конкретных, оперативных мерах, принятых «по свежим следам» для устранения недостатков21.
Для советской деревни наступало время, когда, как совершенно справедливо отметил В.П. Данилов, прошлогодние объяснения причин тяжелого состояния сельского хозяйства, не только сохраняющихся, но и часто увеличивающихся потерь, оказались «уже в таком противоречии с дей- ствительностью, какое игнорировать было невозможно»22. Этим объясняется тот факт, что, сообщая о причинах «неудовлетворительного хода ремонта тракторов», среди которых фигурировали и ранее указываемая нехватка запасных частей, неподготовленность ремонтной базы, кадровый непрофессионализм и т.п., сотрудники партколлегий и уполномоченного Ивановской и Ярославской областей практически перестали причислять к ним засилье «вредительских методов руководства». К рассмотрению вопросов наметился более здравый и прагматичный подход, когда стало допустимым в создавшейся обстановке говорить о материальных мотивах поведения, не боясь упреков в «искривлении линии партии» и забвении высоких идейных ориентиров. Это позволило партследователям и ответственным контролерам свободно заявить о том, что основной причиной медленного восстановления работоспособности техники стал большой отток квалифицированных работников, недовольных задержкой администрацией МТС и колхозов денежных и натуральных выплат. Так Киржачская МТС задолжала трактористам за летний период работы 22 тыс. руб., Нов-кинская – 8 тыс., Писцовская – около 17 тыс.23 В тех районах, в которых колхозники получили зерно соответственно трудодням, семенной фонд лишался ресурсов для возобновление полевых ра-бот24. В связи с этим ответственный секретарь ПК КПК по Ярославской области Ф.Н. Антипов в феврале 1939 г. с тревогой сообщал о том, что в некоторых районах подготовка к весеннему севу находится под угрозой срыва вследствие запущенности механизаторских работ25.
В таком же щадящем духе, без ложного пафоса вскрытия «аполитичности» или «хвостистских настроений», была выдержана и критика верхневолжской промышленной инфраструктуры – отдельных заводов, фабрик, трестовых объединений и т.п. В частности, было установлено, что трест Ивлегпромстрой РСФСР выполнил плановое задание на 66, 2%, а Ивлегпромстрой СССР – вообще только на 39% с колоссальными финансовыми убытками в 1 млн. 35 тыс. и 434 тыс. соответственно. Низкие темпы строительных работ были вызваны элементарной материально-бытовой необеспеченностью рабочих. Так, 26 бараков, предназначенных для них были давно непригодны для жилья и подлежали сносу26.
Нужно отметить, что в рассматриваемый отрезок времени, с ноября 1938 по июнь 1939 г., контроль в области промышленного производства, в том числе контроль режима работы предприятий, нормирования труда, его продуктивности, был постоянным. Мощным стимулом к этому послужило известное постановление ЦК ВКП(б) от 23 декабря 1938 г. «О мероприятиях по обеспечению трудовой дисциплины, улучшению практики государственного страхования и борьбе с злоупотреблениями в этом деле»27.
С декабря 1938 по май 1939 г. ответственные контролеры КПК регулярно посещали, проводили ревизии выполнения производственных планов на металлургическом заводе им. Оржоникидзе в Кольчугино, ковровском инструментальном им. К.О. Киркижа, ивановском экскаваторном, машиностроительном заводе № 4. В ходе проверок особое внимание уделялось соблюдению товарнопроизводственных пропорций, поскольку многие заводы на волне энтузиазма, связанного с обеспечением обороноспособности страны, уклонялись от изготовления элементарных предметов быта, которые они обязаны были выпускать наравне с изделиями для военно-технического сектора.
Правомочность контроля в этой сфере была подкреплена в январе 1939 г. после выхода постановления «О работе потребительской кооперации», которое обязывало Центросоюз расширить ассортимент для полноценного товарооборота между городом и деревней [Самолыга, 2011, с. 18]. Но, как оказалось, судя по данным сотрудников КПК, своевременному проведению хозяйственных мероприятий препятствовала слабая материальная база, «замороженная» по вине некоторых заводов. Так, завод им. Киркижа произвел товаров широкого потребления всего на 45 тыс. рублей в год, завод Торфмаш – не более, чем на 10 тыс. рублей ежемесячно. А на заводе им. Орджоникидзе выпуск товаров осуществлялся не в соответствии с потребностями рынка, а из соображений выгодности производства. В результате, как писал ответственный контролер Будничнов первому секретарю обкома И.К. Седину, «в магазинах Ивановской области чрезвычайно трудно купить ложек, мисок, кружек. Примус и примусную головку совершенно не найти. Заводы им. Орджоникидзе и «Красный октябрь», несмотря на наличие заданий, не выпускают этой продукции. План изготовления ложек выполнен только на 8 %»28. Аналогичная ситуация складывалась и в Костроме, где из 36 государственных предприятий только 8 производили предметы широкого потребления29.
В рассматриваемый период регулярно проводились совещания, на котором ответственные контролеры и партследователи сообщали об основных вопросах, возникающих в ходе проверок.
Обсуждалось развитие не только участков идейно-политического значения, таких как распространение и внедрение в общественного сознание «Краткого курса ВКП(б)» или проведение Всесоюзной переписи населения, но и важнейших объектов социального значения. Серьезная дискуссия состоялась, в частности, в январе 1939 г. по поводу работы Ивановского института охраны материнства и младенчества. Там моральное и «санитарно-гигиеническое» разложение дошло до такой степени, что врачи обсуждали вопросы «усиления массово-политической работы в отношении смерти», сетуя на то, что нет «ни одного места, где можно было бы класть труп того или иного ре-бенка»30. Усилиями уполномоченного КПК был проведен пересмотр всего кадрового состава института, информация доведена до сведения обкома, прокуратуры.
Подводя итоги, следует отметить, что в 1938 - 1939 гг. произошла «реконверсия» системы партийно-политического контроля, сопровождавшаяся отходом от чрезвычайно-репрессивных практик Большого террора. Это выразилось главным образом в тенденции к ограничению объема полномочий, связанных с выполнением «экстренных» функций ведомств. В то же время на примере КПК становится ясно, что все изменения в системе управления были продиктованы сугубо прагматическими целями, рационализацией текущего момента с сохранением уже достигнутых идейно-институциональных результатов. Очередная реорганизация внутрипартийного контроля, имела формы скорее естественно-правового слияния и пересечения функций, чем насильственноискусственного поглощения. Это позволило институтам КПК на основе имевшегося материальнотехнического и кадрового оснащения без сбоев выполнять свои обязанности экспертов-аналитиков и контролеров, стимулируя функционирование местного промышленного производства, активно участвуя в разрешении социально-бытовых проблем, а также вплоть до упразднения играть роль влиятельного внутрипартийного арбитража.
Список литературы Состояние внутрипартийного контроля СССР в ноябре 1938 – июне 1939 года (на материалах областей Верхнего Поволжья)
- Верой и правдой. ФСБ. Страницы истории. Ярославль, 2001.
- Иванцов И.Г. Деятельность органов партийно-государственного контроля на Кубани и Северном Кавказе в начале 1930-х гг.//Рос. история. 2011. № 4.
- Из истории органов государственной безопасности в Ивановской области. 1918 -1954. Иваново, 2008.
- История коммунистической партии Советского Союза. М., 1982.
- Коржихина Т.П. История государственных учреждений СССР. М., 1986.
- Морозов Л.Ф., Портнов В.П. Социалистический контроль в СССР: ист. очерк. М., 1984.
- Очерки идеологической деятельности КПСС. 1938 -1961. М., 1986.
- Самолыга И.А. Союзы потребительской кооперации и их роль в развитии товарообмена города и деревни в 20-30-е гг. ХХ в. (на материалах региона Верхнего Поволжья): автореф. дис. … канд. ист. наук. Иваново, 2011.
- Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010.
- Veroj i pravdoj. FSB. Stranitsy istorii. Yaroslavl', 2001.
- Ivantsov I.G. Deyatel'nost' organov partijno-gosudarstvennogo kontrolya na Kubani i Severnom Kavkaze v nachale 1930-kh godov//Ros. istoriya. 2011. № 4.
- Iz istorii organov gosudarstvennoj bezopasnosti v Ivanovskoj oblasti. 1918 -1954. Ivanovo, 2008.
- Istoriya kommunisticheskoj partii Sovetskogo Soyuza. M., 1982.
- Korzhikhina T.P. Istoriya gosudarstvennykh uchrezhdenij SSSR. M., 1986.
- Morozov L.F., Portnov V.P. Sotsialisticheskij kontrol' v SSSR: ist. ocherk. M., 1984.
- Ocherki ideologicheskoj deyatel'nosti KPSS. 1938 -1961. M., 1986.
- Samolyga I.A. Soyuzy potrebitel'skoj kooperatsii i ikh rol' v razvitii tovaroobmena goroda i derevni v 20-30-e gody KhKh veka (na materialakh regiona Verkhnego Povolzh'ya): avtoref. dis … kand. ist. nauk. Ivanovo, 2011.
- Khlevnyuk O.V. Khozyain. Stalin i utverzhdenie stalinskoj diktatury. M., 2010.