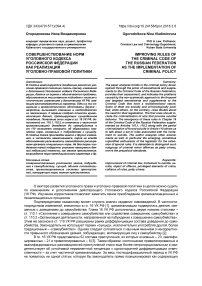Совершенствование норм Уголовного кодекса Российской Федерации как реализация уголовно-правовой политики
Автор: Огородникова Нина Владимировна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются тенденции развития уголовно-правовой политики сквозь призму изменений и дополнений Уголовного кодекса Российской Федерации, дается их оценка и обозначаются проблемы, обусловленные несистемным подходом к частым и «точечным» изменениям и дополнениям УК РФ, имеющим разнонаправленный характер. Одни из них социально и криминологически обоснованы, другие - напротив, вызывают сомнения в необходимости их легализации. К первым следует отнести криминализацию деяний, провоцирующих суицидальное поведение. Появление этих норм в гл. 16 УК РФ, дополненной ст. 110.1, 110.2, в сочетании с частичной криминализацией доведения до самоубийства в ст. 110 позволяет говорить об образовании комплекса норм, связанных с побуждением к суициду. В статье также произведен анализ и других изменений, в частности наметившаяся, порой не всегда обоснованная увлеченность законодателя расширением арсенала специальных норм. Не бесспорны выделение такой подгруппы уголовно наказуемых деяний небольшой тяжести, как мелкие преступления, возрождение норм преюдициального характера и др.
Совершенствование уголовного закона, побуждение к самоубийству, суицид, объект посягательства, привилегированные составы преступлений, мелкие преступления, конкуренция норм
Короткий адрес: https://sciup.org/14939065
IDR: 14939065 | УДК: 343(470+571)(094.4) | DOI: 10.24158/tipor.2018.3.8
Текст научной статьи Совершенствование норм Уголовного кодекса Российской Федерации как реализация уголовно-правовой политики
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
О векторе развития уголовного права и уголовно-правовой политики в целом можно судить по изменениям и дополнениям действующего Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). Изучение коррективов позволяет заметить явное преобладание криминализационных и пенализационных процессов.
Подтверждением сказанному может служить анализ недавних нововведений. В частности, посредством изменений, внесенных в гл. 16 УК РФ [1], криминализации подверглись деяния, связанные с доведением до самоубийства. Глава 16 УК РФ дополнилась двумя новыми статьями – ст. 110.1 «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и ст. 110.2 «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства». Этим же законом в ст. 110 УК РФ расширены рамки дифференциации состава доведения до самоубийства. Законодатель не использует термин «суицид», исключительно употребляя другой, более традиционный – «самоубийство». Однако следует согласиться с научным мнением о некорректности привычного обозначения деяний, побуждающих, мотивирующих лиц к самоубийству [2].
В гл. 16 УК РФ представлены 52 состава преступления, из которых основных – 23, квалифицированных – 21 и привилегированных – 8 [3]. Таким образом, соотношение привилегированных и квалифицированных разновидностей преступлений стало еще более непропорциональным и свидетельствует об устойчивой перманентной тенденции к односторонней дифференциации ответственности – за счет частичной криминализации. За весь посткодификационный период в УК РФ не появилось ни одной статьи, которую бы законодатель прямо позиционировал как содержащую привилегированный вид преступления. В действительности же таковые имеются: это и изначально «прописанные» в Кодексе составы заражения венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией (ст. 121– 122 УК РФ), выступающие, по сути, привилегированными разновидностями соответственно средней тяжести (ст. 112 УК РФ) и тяжкого (ст. 111 УК РФ) вреда здоровью, и не так давно введенные нормы о мошенничестве, предусмотренные статьями 159.1–159.3, 159.5–159.6 УК РФ, являющиеся специальными по отношению к общей норме, изложенной в ст. 159 УК РФ. К выводу о привилегированности перечисленных норм приводит сравнительный анализ их санкций.
Ряд примеров можно продолжить, но и приведенные наглядно демонстрируют еще одну наметившуюся тенденцию законодателя – «плодить» специальные нормы, что в большей мере типично для прецедентного права. В полной мере сказанное относится и к новым составам преступлений, связанных с суицидом, поскольку нормы, изложенные в ст. 110.1 и 110.2 УК РФ, наряду с нормами, содержащимися во многих статьях УК РФ (в частности, ст. 150, 151, 151.2, 172.2, 205.1, 205.2, 205.4, 205.5, 210, 230, 230.1, 280.1, 282.1, 282.3 и др.), находятся в отношении подчинения по объему с нормами Общей части о соучастии.
Для правоприменительной деятельности наряду с вопросами конкуренции возникает и такая проблема, как соотношение и разграничение уголовно-правовых норм, в частности норм, связанных с побуждением к суициду, с нормой в ст. 151 .2 УК РФ, введенной тем же Федеральным законом № 120-ФЗ и предусматривающей ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. Последняя, в свою очередь, потребует сопоставления ее с нормой об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ).
Белорусский ученый В.В. Марчук отмечает также наличие конкуренции склонения к самоубийству, с одной стороны, с доведением до самоубийства, а с другой – с убийством [4].
С введением ст. 110.1, 110.2 УК РФ внутри гл. 16 УК РФ изменилось не только общее число составов преступлений, но и «расстановка сил» по признаку непосредственного объекта. Традиционным является выделение в этой главе таких подгрупп, как преступления против жизни, против здоровья и иные преступления против жизни и здоровья. На сегодняшний день наличие в УК РФ трех статей – ст. 110, 110.1, 110.2 – позволяет говорить о формировании системы преступлений, связанных с суицидом. Вместе с тем призвание всех этих статей – предупредить суицидальное поведение, запретить его проявление в каких бы то ни было формах и определить уровень наказуемости в случае нарушения уголовно-правовых запретов – вряд ли позволяет говорить о едином для них основном непосредственном объекте преступления. Дополненная частью второй с набором квалифицирующих признаков статья 110 УК РФ не изменила направленности посягательства. Доведение до самоубийства входит в подгруппу преступлений, посягающих на жизнь. Сюда же из вновь введенных следует, на наш взгляд, причислить норму о склонении к совершению самоубийства или содействии совершению самоубийства, повлекших самоубийство или покушение на самоубийство (ч. 4 ст. 110.1 УК РФ). Составы же преступлений как угрожающих жизни и здоровью, предусмотренных ч. 1–3 ст. 110.1, ст. 110.2 УК РФ, представляется более корректным отнести в третью подгруппу, представленную ст. 119, 120, ч. 1 ст. 122, ст. 125 УК РФ, поскольку при их совершении вред причиняется общественным отношениям, складывающимся по поводу безопасности жизни и здоровья.
Новые составы преступлений являются реакцией государства на сложившуюся в последние годы и обострившуюся в российском обществе ситуацию с вовлечением, прежде всего детей и подростков, в суицидальные объединения и побуждением их к самоубийству посредством средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.
В то же время представлять последние коррективы УК РФ как нововведения применительно к преступлениям, связанным с побуждением к суициду, можно с большой долей условности, в чем убеждает ретроспективный анализ отечественного уголовного законодательства.
О блоке преступлений, связанных с суицидальным поведением, позволяет говорить дореволюционное законодательство. В частности, в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. преступления против жизни подразделялись на две группы и размещались в двух главах: в первой главе предусматривалась ответственность за смертоубийство, а во второй – за самоубийство. В рамках ответственности за самоубийство преступными объявлялись три деяния: доведение, подстрекательство и пособничество. В Уголовном уложении 1903 г. приводилось уточнение, что ответственность за подстрекательство и пособничество самоубийству наступала, если потерпевший являлся несовершеннолетним (не достигшим 21 года) либо душевнобольным.
Советское уголовное право также относило подстрекательство или пособничество самоубийству несовершеннолетнего или душевнобольного к системе преступлений против жизни, что было закреплено в разд. 1 «Убийство» гл. V «Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» УК РСФСР 1922 г. Система преступлений против жизни и здоровья в целом не претерпела изменений и в УК РСФСР 1926 г. Была введена лишь ответственность за доведение до самоубийства или покушение на него лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного, путем жестокого обращения с потерпевшим или иным подобным путем, а также за заведомое поставление другого лица в опасность заражения венерической болезнью. УК РСФСР 1960 г. в процессе частичной декриминализации сохранил в ст. 107 ответственность только за доведение до самоубийства посредством жестокого обращения с потерпевшим или систематического унижения его личного достоинства. Трансформация описания данного преступления в УК РФ 1996 г. выразилась в том, что законодатель в составе доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ) расширил круг потерпевших (соответственно, и субъектов), исключив указание на материальную или иную зависимость от виновного.
Компаративистский анализ можно расширить и за счет обращения к зарубежным аналогам рассматриваемых норм. Во всех государствах предусмотрена ответственность за преступления против жизни и здоровья, включающие в свою систему прежде всего убийства (простые, квалифицированные и привилегированные), а также деяния, связанные с самоубийством (подстрекательство, помощь, доведение) и абортом (склонение, рекламирование абортивных средств и др.). В некоторых государствах (Бруней, Индия, Нигерия, Сингапур, Судан, Тонга) к преступлениям против жизни и здоровья относится и попытка самоубийства. Такое деяние было известно и российскому уголовному праву на начальных стадиях его развития.
В настоящее время уровень и масштабы вовлечения подрастающего поколения в различные секты типа «групп смерти» таковы, что потребовали «оперативного вмешательства» законодателя для уголовного преследования тех, кто разрушительно воздействует на сознание и духовное развитие лиц с неустойчивой и несформировавшейся психикой. Возможности виртуального пространства позволяют манипулировать сознанием и внушать решимость к суициду как конкретного адресата, так и неперсонифицированного круга потенциальных потерпевших, что существенно повышает общественную опасность подобной деятельности. С этой точки зрения позиция законодателя о возрождении целого блока преступлений, связанных с доведением до самоубийства, не только объяснима и оправданна, но и социально необходима.
В то же время вызывает озабоченность другая тенденция законодателя – его увлеченность «мелкими» преступлениями. В свете новаций июля 2016 г. можно констатировать, что Уголовный кодекс «мельчает». Двумя федеральными законами УК РФ дополнен составом мелкого хищения, совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ) [5], и преступлениями коррупционной направленности: мелким коммерческим подкупом (ст. 204.2 УК РФ) и мелким взяточничеством (ст. 291.2 УК РФ) [6]. Анализируемые изменения УК РФ побуждают к рассуждениям о терминологическом соотношении мелких правонарушений в уголовном и административном законодательстве и об именовании преступлений мелкими в целом. Достигли ли таковые деяния степени общественной опасности, позволяющей им пребывать в статусе преступных? То, что вполне приемлемо для административного закона (мелкое хищение, мелкое хулиганство), «режет слух» в уголовном; не мелковато ли для Уголовного кодекса иметь в своем арсенале мелкие преступления? Законодатель в очередной раз игнорирует позицию ученых – вернуться к идее маленького, но жесткого УК РФ. При наличии же в самом репрессивном кодифицированном акте, которым является Уголовный кодекс, такой «подкатегории» преступлений небольшой тяжести, как мелкие преступления, есть смысл обратиться к апробированному опыту уголовно-правовых систем зарубежных стран, разделяющих терминологически все преступные деяния на преступления, проступки и правонарушения с соответствующим уровнем реагирования на каждый классификационный вид как самих деяний, так и лиц, их совершивших.
Помимо названных к числу тенденций современного уголовного права следует отнести возрождение норм преюдициального характера, расширение императивных норм об освобождении от уголовной ответственности в Особенной части с детализацией оснований и условий для их применения, восстановление неоднократности под видом иных признаков (в частности, признака «двух и более лиц»), возвращение рецидиву статуса квалифицирующего признака состава преступления и ряд других. Все это свидетельствует о непрекращающемся поиске законодателем оптимальных форм совершенствования отечественного законодательства, когда вполне приемлема такая формула, как «новое – хорошо забытое старое».
Подводя итог краткому анализу изменений и дополнений последних лет, корректирующих уголовный закон, следует заключить, что период реформирования отечественного уголовного законодательства не завершен и по-прежнему нуждается в тщательной научной экспертизе и разработке концептуального подхода к его построению.
Ссылки и примечания:
-
1. См.: О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности,
направленной на побуждение детей к суицидальному поведению [Электронный ресурс] : федер. закон Рос. Федерации от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
-
2. В.В. Марчук отмечает, что составные части данного слова находятся в противоречии с юридическим понятием убийства, под которым понимается умышленное противоправное лишение жизни другого человека. В суицидологии при характеристике намеренного лишения человеком своей жизни обычно используют понятия «суицид» или «суицидальная попытка». Суицид или попытка суицида не являются преступлением. См.: Марчук В.В. Уголовно-правовая оценка деяний, инспирирующих суицид // Судовы веснiк. Мiнск, 2003. № 2. С. 29.
-
3. Этот дисбаланс более нагляден в других главах УК РФ, поскольку нигде, как в гл. 16, нет такого количества этого вида составов преступлений . Три преступления: убийство, умышленное причинение тяжкого и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью имеют как квалифицированные, так и привилегированные свои разновидности.
-
4. См.: Марчук В.В. Указ. соч. С. 30.
-
5. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности : федер. закон Рос. Федерации от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ // Российская газета. 2016. 8 июля.
-
6. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ // Там же.
Список литературы Совершенствование норм Уголовного кодекса Российской Федерации как реализация уголовно-правовой политики
- О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению : федер. закон Рос. Федерации от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Марчук В.В. Уголовно-правовая оценка деяний, инспирирующих суицид//Судовы веснiк. Мiнск, 2003. № 2. С. 29
- О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности: федер. закон Рос. Федерации от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ//Российская газета. 2016. 8 июля
- О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ//Российская газета. 2016. 8 июля.