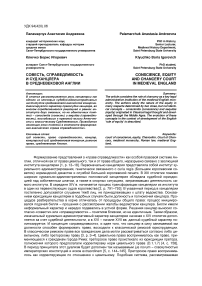Совесть, справедливость и суд канцлера в средневековой Англии
Автор: Паламарчук Анастасия Андреевна, Ключко Борис Игоревич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 18, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается роль канцелярии как одного из ключевых судебно-административных институтов средневековой английской монархии. Анализируется характер правосудия канцлера, во многом определявшегося рецепцией в рамках института двух смежных, но не идентичных понятий - conscientia (совесть) и aequitas (справедливость), восходивших к правовой мысли Античности и классическому Средневековью. Приводится эволюция этих понятий в контексте формирования английского «права справедливости».
Суд совести, право справедливости, канцлер, канцлерский суд, средневековая монархия, римское право, средневековая англия
Короткий адрес: https://sciup.org/14937533
IDR: 14937533 | УДК: 94(420).06
Текст научной статьи Совесть, справедливость и суд канцлера в средневековой Англии
В статье рассматривается роль канцелярии как одного из ключевых судебно-административных институтов средневековой английской монархии. Анализируется характер правосудия канцлера, во многом определявшегося рецепцией в рамках института двух смежных, но не идентичных понятий – conscientia (совесть) и aequitas (справедливость), восходивших к правовой мысли Античности и классическому Средневековью. Приводится эволюция этих понятий в контексте формирования английского «права справедливости».
Формирование представлений о «праве справедливости» как особой правовой системe Англии, отличной как от права цивильного, так и от права общего, неразрывно связано с эволюцией института канцелярии [1, р. 13–18]. Первоначально канцелярия представляла собой институт куриального администрирования, генетически связанного с curia regis (Большим королевским советом) нормандской династии и службой Большой королевской печати. В XIII столетии помимо широких куриально-административных полномочий канцелярия обладала судебной юрисдикцией над собственным штатом, а также в спорных ситуациях, затрагивавших деятельность самого института. В середине XIV в. начинается процесс трансформации канцелярии из института в один из первенствующих судов королевства [2, р. 791–793]. В указанный период в канцелярии постепенно допускается слушание тяжб лиц, не принадлежавших к штату ведомства. Основанием юрисдикции канцелярии в подобных случаях были должность и полномочия канцлера. Процедура разбирательства в корне отличалась от процедуры общего права: процесс инициировался подачей билля – прошения о рассмотрении жалобы ведомством канцлера. Билли имели неформальный характер и нередко подавались в устной форме. Решения канцлер выносил согласно «совести» или «справедливости» – понятиям близким, но не идентичным. Таким образом, изначальный куриально-административный характер канцелярии начиная с XIV столетия дополняется за счет судебной деятельности, а в XVI – начале XVII вв. данный судебный характер политизируется. И концепция «справедливости», и идея того, что канцлер в силу занимаемой им должности способен формировать право, восходили к классической римской юриспруденции. В классическом римском праве все гражданские дела могли рассматриваться согласно либо цивильному, либо преторскому праву [3, р. 3–4]. Цивильное право воспринималось как право, применяющееся к гражданам города Рима; преторское право проистекало из юрисдикции претора, полномочия которого предполагали корректировку норм цивильного права (D.1.1.7) [4, c. 158]. В период принципата этот дуализм будет дополнен так называемым jus novum – совокупностью императорских конституций и исков extraordinem [5, c. 144–145]. Преторское право воспринималось как корректирующее по отношению к цивильному. Подобная система, рассматриваемая впоследствии английскими теоретиками, рождала ясные аналогии: jus novum, то есть право, формируемое императорской властью, отождествлялось с прерогативной юстицией, а право преторское – с судебными полномочиями канцлера.
В средневековой традиции характер судебных полномочий канцлера описывался с помощью двух понятий – «суд совести» (conscience) и «суд справедливости» (или «суд равенства») (equity), причем второе понятие (equity) вошло в употребление позднее, чем первое; именно термин «equity» преимущественно использовался для характеристики права канцлера как самостоятельной правовой системы. В историографии института канцелярии существует несколько подходов к трактовке названных терминов. Д. Клинк [6, p. 4 – 7] выделяет два: первый подход, представленный Дж. Бейкером [7], У.Дж. Джонсом [8] и Дж.Л. Бартоном [9], акцентирует внимание на переходе от «суда совести» к «суду справедливости». Подобный подход предполагает, что если в период Средневековья речь шла о личном правосудии канцлера, то в раннее Новое время персональный характер правосудия нивелируется за счет более общих принципов «справедливости». Второй подход, представленный в работах Д. Йейла [10], М.Л. Брауна [11] и Дж. Уайтта [12], описывает эволюцию самого понятия «совесть» прежде всего в конфессиональном аспекте.
Понятие conscientia, восходившее к аристотелевскому термину sinderesis, имело ряд смежных значений. В первом случае термин conscientia был синонимом слова «знание» и предполагал осведомленность в чем-либо. Во втором случае акцент делался на совместном характере этого знания (con-scientia) и означал совместное хранение неких сведений или секрета. Субъект оказывался в положении свидетеля по отношению к известным ему событиям или информации. Обладая этим знанием, субъект мог оценивать его в положительном или отрицательном ключе, то есть выступать в качестве судьи (judex) [13, p. 1 – 4]. Следовательно, в представлениях о consci-entia изначально присутствовал и оттенок субъективности, и заметный «судебный» аспект. С другой стороны, в римском и в средневековом понимании conscientia не столько указывала на способность выносить оценочные суждения на основе веры или убеждения, сколько была связана со знанием и способностью им оперировать, а следовательно, относилась к иной области явлений нежели та, к которой относится «совесть» сегодня [14, p. 20, 41]. Средневековью не было чуждо и различие между «совестью» персональной (понимание человеком того, что есть грех, а что есть добродетель) и тем, как нарушения норм христианского социального поведения интерпретируются судом [15, p. 381]. Канцлер считался «хранителем королевской совести», в которой персональное и публичное измерения совпадали, а осуществлявшееся им правосудие воплощало не собственные воззрения канцлера, но королевскую conscientia (знание). Поэтому неудивительно, что в биллях канцелярии термин «совесть» появляется не ранее начала XV в. [16].
Римские представления об aequitas восходили к аристотелевскому термину epieikeia, предполагавшему необходимость адаптации универсального естественного права к конкретным социальным и политическим моделям. Подобный подход, как уже было сказано выше, использовался в классическом Риме, где преторское право интерпретировалось как корректирующее по отношению к праву цивильному. Корректируя общие правовые нормы своими эдиктами, претор приводил их к большему соответствию благу общины. Понимание действий преторов как гармонизирующих было связано со становлением концепции bona fides [17, p. 49 – 51]. Это понятие, сформировавшееся в римской юриспруденции, имело объективное и субъективное измерение. В объективном смысле оно указывало на то, что общество ожидало от того или иного человека достойного и честного поведения в жизни и на судебном процессе. В субъективном же смысле оно указывало на убежденность самого человека в том, что он ведет себя достойно, справедливо и честно, его поступки верны и не наносят ущерба интересам других. Так, человек, которому в обоих смыслах была присуща bona fides, ожидаемым образом был способен воплощать в своих решениях aequitas. Уже в Дигестах (D. 1.1.1.) [18, p. 156] приводится мнение Цельса, определявшего право как искусство доброго и справедливого (aequm et bonum). Впоследствии aequitas, проявление которой определяется наличием bona fidei, сближается с традиционными римскими гражданскими добродетелями и отчетливым образом морализуется [19, p. 30 – 31]. В период христианизации Империи понимаемая таким образом aequitas предсказуемо начинала трактоваться как один из способов гармонизации jus civile с естественным правом, проистекающим от самого Творца. Однако aequitas античного Рима никогда не являлась самостоятельной правовой системой. Преторское право возникло вследствие необходимости корректировать jus civile и не мыслилось в отрыве от него. Теоретики средневековой Европы восприняли описанную выше морально-богословскую концепцию aequitas. Иоанн Солсберийский писал: «Суды Божии вечны, а его закон – справедливость (aequitas)» [20, p. 178]; Бальдо открыто воспроизводил античный стереотип: «Справедливость (aequitas) есть правильность суждения, согласующаяся с естественным разумом» [21, s. 9]. Кардинал Остийский придавал античной «моральной» концепции aequi-tas еще более ощутимый христианский оттенок, ставя его в один ряд с Божиим милосердием:
aequitas canonica носит духовный характер, ибо основана на Божеcтвенном откровении милости [22]. Подобное правосудие было призвано не только восстанавливать правильный порядок вещей, утраченный в результате преступления, но также оказывать исцеляющее воздействие на душу грешника [23, p. 86]. Божественное милосердие нелицеприятно и дается человеку вне зависимости от его статуса или рода занятий. Позднее данный тезис повлиял на концепцию равенства сторон в трибуналах, где aequitas считалась принципом совершения правосудия: «где справедливость (aequitas), там и равенство (aequalitas)» [24, p. 95].
Описанные модели восприятия conscientia и aequitas необходимо учитывать при рассмотрении конфликтных процессов, разворачивавшихся вокруг канцелярии уже в начале XVII столетия при Тюдорах и Стюартах.
Ссылки:
-
1. Tout T.F. Chapters in the Administrative History of Medieval England : in 6 vols. Vol.1. Manchester,1929. 352 p.
-
2. Tucker P. The Early History of the Court of Chancery: A Comparative Study // English Historical Review. 2000. № 115. P. 791-811.
-
3. Zwalve W.J., Koops E. Introduction: The Equity Phenomenon // Law and Equity: Approaches in Roman and Common Law. Leiden, 2013. 215 p.
-
4. Памятники Римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997. 608 с.
-
5. Гарридо М.Х.Г. Римское частное право: казусы, иски, институты. М., 2005. 811 с.
-
6. Klinck D.R. Conscience, Equity and the Court of Chancery in Early Modern England. Farnham, 2013. 319 p.
-
7. Baker J.H. An Introduction to English Legal History. Oxford, 2003. 650 p.
-
8. Jones W.J. The Elizabethan Court of Chancery. Oxford, 1967. 546 p.
-
9. Barton J.L. Equity in Medieval Common Law // Equity in World’s Legal Systems. Brussels, 1973. P. 139-155.
-
10. Hake E. Epieikeia: A Dialogue on Equity in Three Parts. New Heaven, 1953. 179 p.
-
11. Brown M.L. Donne and the Politics of Conscience in Early Modern England. Leiden, 1995. 159 p.
-
12. Witte J.Jr. Law and Protestantism: The Legal Teaching of the Lutheran Reformation. Cambridge, 2002. 337 p.
-
13. Potts T.C. Conscience in Medieval Philosophy. Cambridge, 1980. 167 p.
-
14. Ibid.
-
15. Simpson A.W.B. A History of the Common Law of Contract: The Rise of the Action of Assumpsit. Oxford, 1975. 647 p.
-
16. Select cases in Chancery AD 1364 to 1471 / ed. by W.P. Baildon. London, 1896. 356 p.
-
17. Mousoukaris G. Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition. Auckland, 2015. 325 p.
-
18. Памятники Римского права...
-
19. Falcon y Tella M.J. Equity and Law. Leiden, 2008. 308 p.
-
20. Joannis Saresberiensis Policraticus … libriocto. Lugduni Batavorum, 1595. 606 p.
-
21. Horn N. Aequitas in den Lehren des Baldus. Köln ; Gratz, 1968. 244 s.
-
22. Lefebre C. Hostiensis, maître de l’equité canonique // Ephemerides Juris Canonici. 1972. No. 28. P. 11–30.
-
23. Mousoukaris G. Op. cit. P. 86.
-
24. Horn N. Op. cit. P. 95.
Список литературы Совесть, справедливость и суд канцлера в средневековой Англии
- Tout T.F. Chapters in the Administrative History of Medieval England: in 6 vols. Vol. 1. Manchester,1929. 352 p.
- Tucker P. The Early History of the Court of Chancery: A Comparative Study//English Historical Review. 2000. № 115. P. 791 -811.
- Zwalve W.J., Koops E. Introduction: The Equity Phenomenon//Law and Equity: Approaches in Roman and Common Law. Leiden, 2013. 215 p.
- Памятники Римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997. 608 с.
- Гарридо М.Х.Г. Римское частное право: казусы, иски, институты. М., 2005. 811 с.
- Klinck D.R. Conscience, Equity and the Court of Chancery in Early Modern England. Farnham, 2013. 319 p.
- Baker J.H. An Introduction to English Legal History. Oxford, 2003. 650 p.
- Jones W.J. The Elizabethan Court of Chancery. Oxford, 1967. 546 p.
- Barton J.L. Equity in Medieval Common Law//Equity in World's Legal Systems. Brussels, 1973. P. 139-155.
- Hake E. Epieikeia: A Dialogue on Equity in Three Parts. New Heaven, 1953. 179 p.
- Brown M.L. Donne and the Politics of Conscience in Early Modern England. Leiden, 1995. 159 p.
- Witte J.Jr. Law and Protestantism: The Legal Teaching of the Lutheran Reformation. Cambridge, 2002. 337 p.
- Potts T.C. Conscience in Medieval Philosophy. Cambridge, 1980. 167 p.
- Simpson A.W.B. A History of the Common Law of Contract: The Rise of the Action of Assumpsit. Oxford, 1975. 647 p.
- Select cases in Chancery AD 1364 to 1471/ed. by W.P. Baildon. London, 1896. 356 p.
- Mousoukaris G. Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition. Auckland, 2015. 325 p.
- Памятники Римского права..
- Falcon y Tella M.J. Equity and Law. Leiden, 2008. 308 p.
- Joannis Saresberiensis Policraticus.. libriocto. Lugduni Batavorum, 1595. 606 p.
- Horn N. Aequitas in den Lehren des Baldus. Köln; Gratz, 1968. 244 s.
- Lefebre C. Hostiensis, maître de l'equité canonique//Ephemerides Juris Canonici. 1972. No. 28. P. 11-30.