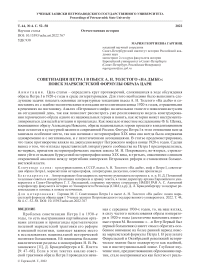Советизация Петра I в пьесе А. Н. Толстого "На дыбе": поиск марксистской формулы образа царя
Автор: Гаргянц Мария Георгиевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Память
Статья в выпуске: 4 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - определить круг противоречий, сложившихся в ходе обсуждения образа Петра I в 1920-е годы в среде литературоведов. Для этого необходимо было выполнить следующие задачи: показать основные литературные тенденции пьесы А. Н. Толстого «На дыбе» и сопоставить их с идейно-политическими взглядами интеллигенции конца 1920-х годов, отраженными в рецензиях на постановку. Анализ «Петровского мифа» на начальном этапе его появления актуален на сегодняшний день, так как позволяет рассмотреть уже реализованную модель конструирования героического образа одного из национальных героев и понять, как история может инструментализироваться для целей агитации и пропаганды. Как показало известное исследование Ф. Б. Шенка, посвященное образу Александра Невского, образы национальных героев прошлого в видоизмененном виде остаются в культурной памяти и современной России. Фигура Петра I в этом отношении всегда занимала особенное место, так как начиная с историографии XIX века она всегда была сопряжена одновременно и с негативными, и с патетическими ассоциациями. В статье продемонстрировано, что такое противоречие влияло на дискуссии вокруг Петровского мифа в конце 1920-х годов. Сделан вывод о том, что взгляды представителей литературного сообщества на Петра I предопределялись, во-первых, приматом историографических оценок школы М. Н. Покровского, во-вторых, стремлением уйти от выводов буржуазной историографии конца XIX века, в-третьих, опасениями слишком откровенной аналогии между перегибами имперских Петровских реформ и становления большевистской власти.
Культурная память в ссср, пьеса а. н. толстого на дыбе, миф о петре i, советизация образа петра i, марксистская историография, литературная дискуссия, советская пропаганда благодарности
Короткий адрес: https://sciup.org/147237956
IDR: 147237956 | УДК: 930 | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.767
Текст научной статьи Советизация Петра I в пьесе А. Н. Толстого "На дыбе": поиск марксистской формулы образа царя
Проблема советизации Петра I в 1930-е годы, то есть выстраивания партийными органами агитации и пропаганды прагматически полезной марксистской трактовки его реформ и внешней политики, занимает важное место в исследованиях национальной исторической политики большевиков. Ей посвящены большие аналитические разделы в монографиях Н. В. Рязановского [11], Д. Бранденбергера и К. Платта [9: 47–68]. Если в этих текстах анализ советской трактовки образа Петра I проводился начи- ная с середины 1930-х годов, то, на наш взгляд, в силу частого использования образа императора в 1920-е годы (достаточно вспомнить известные строки М. Волошина: «…и Петр Первый был первый большевик») имеет смысл обратить особенное внимание на более ранний период поиска марксистской формулы Петра I. В результате Февральской и Октябрьской революций историческое знание было подвергнуто как идейной, так и институциональной ломке. Глубокое изучение эпох, предшествовавших образованию партии, стало восприниматься как бегство от реаль- ности, отдаляющее интеллектуала от решения насущных задач. В университетах закрывались историко-филологические факультеты, а «старая» профессура покидала свои места работы. В 1930-е годы взгляд на задачи истории меняется кардинально. Этому способствовали как изменения в национальной политике СССР, взявшего курс на построение единой советской нации, так и принятие Конституции 1936 года, обозначившей классовую борьбу оконченной. В сфере исторической науки это проявилось как в появлении госзадания составить труд по истории Гражданской войны в СССР (комиссия И. И. Минца), так и работе правительственной комиссии по конкурсу на лучший учебник истории СССР, которая выявила изменение общественных настроений через споры в среде ученых, писателей и публицистов и вызвала смену представлений о русской дореволюционной истории и ее героях в исторических и политических нарративах с крайне негативных на восторженно-патетические. Безусловно, такие перемены не могли не коснуться деятелей литературного и кинематографического сообщества, принимавших активное участие в политике СССР в те годы. Примерами тому является создание С. М. Эйзенштейном, Вс. Пудовкиным, А. Довженко, Г. Козинцевым и Л. Траубергом кинематографических мифов о русских национальных героях, а также появление жанра социалистического исторического романа, прославлявшего военные победы русских полководцев и правителей прошлых эпох.
Создание Петровского мифа в этом ряду представляет особый интерес для исследователей, потому что образ Петра I в русской исторической памяти традиционно был сопряжен с двумя антагонистическими тенденциями. Первая – это воспоминание о человеческих жертвах, вызванных Северной войной, форсированным строительством Санкт-Петербурга, ломкой устоявшихся традиций. Этот нарратив, в немалой степени вдохновленный «Медным всадником» А. С. Пушкина, был развит в результате спора западников и славянофилов, превратившего «Петровский вопрос» в неразрешимую загадку историографии. Вторая традиция – это гордость, вызванная успехами Петра I на международной арене, высокими темпами модернизации и просвещения страны, а также образованием империи. Советскому культурному проекту 1930-х годов необходимо было, пропустив через новые идеологические фильтры корпус текстов о Петре I, избавить его от негативных коннотаций и несколько упростить для идеологической цели прославления своего национального прошлого.
Данная статья посвящена начальному этапу поиска верной формулы советизации Петра I – идейному конфликту вокруг постановки пьесы А. Н. Толстого «На дыбе» в театре МХТ-2 (1930 год) в среде литературного сообщества конца 1920-х годов, с одной стороны, и между А. Н. Толстым и режиссером постановки Б. М. Сушкевичем, с другой. Этот конфликт поможет рассмотреть сдвиги, происходящие в общественном мнении интеллектуальных кругов уже в самом начале 1930-х годов. Цель статьи – выявить, какие противоречия в трактовке Петровского мифа были заложены в самом начале процесса советизации фигуры Петра I. Текст пьесы А. Н. Толстого, который будет многократно переделываться автором в течение 1930-х годов, был выбран как наглядный источник, позволяющий проследить, как менялось представление о Петровской эпохе на фоне актуализации споров о политической и художественной ценности истории для задач построения социализма. Кроме текста пьесы «На дыбе», в статье рассматриваются рецензии литературных критиков на ее постановку, напечатанные в передовицах ведущих политических и литературных советских газет.
ПРЕМЬЕРА ПЬЕСЫ «НА ДЫБЕ» В ТЕАТРЕ МХТ-2
К. Платт, исследуя процесс конструирования исторических нарративов о Петре I и Иване Грозном в 1930-е годы, обозначил их «изобретенными мифами» [10: 119–121], подчеркивая не контекстуальную обусловленность возникновения этого нарратива, а его сконструированность. При этом, отмечая характер сконструированно-сти Петровского мифа, на наш взгляд, непродуктивно воспринимать его как гомогенную, спланированную сталинскую концепцию. Ведь кроме идеологического партийного дискурса было еще несколько площадок для обсуждения корректной марксистской трактовки Петровской эпохи, которые не могли не оказывать влияния на изменение образа Петра I. Одной из таких площадок был мир театра.
В феврале 1930 года на сцене театра МХТ-2 состоялась премьера пьесы А. Н. Толстого «На дыбе», которую он создавал в 1928–1929 годах. Это было событие большого масштаба. После возвращения писателя в СССР из эмиграции в 1923 году и публично высказанной им позиции поддержки новому политическому режиму, премьеру пьесы активно обсуждали в прессе, посмотреть постановку приехали представители партийной номенклатуры, члены ГПУ при НКВД СССР и лично И. В. Сталин. Согласно рассказу-воспоминанию Р. В. Иванова-Разумника, не досмотрев пьесу до конца, И. В. Сталин покинул зал, за ним последовал и режиссер постановки Б. М. Сушкевич [3: 417]. А. Н. Толстой остался в зале и наблюдал выступления представителей Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), которые, по его выражению, «встретили пьесу в штыки»1. В письме И. В. Сталину, отправленному вскоре после неудачной премьеры и публикации первых рецензий, Алексей Николаевич не только просил протекции, но и пошел дальше: согласовываясь с идеологической линией партии, он объяснил причины столь резкой критики его произведения качественными и идейными недостатками литературных организаций, необходимостью их унификации:
«Я воспринимаю эту статью (рецензию И. Бачелиса. – М. Г. ) так, как бы воспринял солдат, идущий в атаку, удар сзади. Писателю, отдающему все художественные силы революции, строительству социализма, пролерья-ту, писателю, всеми силами связанному с небывалой эпохой, – бросают обвинение: классовый враг… Не умно, и – хуже того – беспланово. <…> Литература под угрозой понижения качества. В чем же дело? В отсутствии плана. Вся жизнь охвачена пятилетним планом строительства, вся, кроме литературы. Здесь есть окрики и угрозы, влияния отдельных групп и личностей, приязни и неприязни, но плана, органически врастающего в строительство, нет. Я мыслю всесоюзную писательскую конференцию. На ней должен быть развернут и совместно проработан план художественных работ на ближайшие годы»2.
Ответного письма либо не последовало, либо оно было уничтожено писателем, но, во всяком случае, в апреле 1932 года пролетарские литературные организации потеряли политический вес и были распущены, а А. Н. Толстой продолжил работать над историей Петра I дальше, переделал пьесу к 1935–1936 годам и приступил к написанию незавершенной третьей книги романа. Конечно, со стороны писателя данное письмо было умелым тактическим шагом ради спасения своей собственной репутации, а может быть, и не только ее. Но резкая критика представителей литературных организаций была связана не с их организационной дробностью, а со скоростью изменений общественно-политических настроений в те годы. Текст пьесы «На дыбе», как и образ Петра I в ней, не мог не вызвать столь бурного ажиотажа в литературном сообществе, так как он опирался на революционную литературную традицию начала 1920-х годов. Эта литературная тенденция отражалась в двух характерных чертах пьесы.
Во-первых, основным источником противоречий между персонажами являлась классовая борьба, где позицию буржуазных «угнетате- лей» занимал сам Петр. Он имел деспотический характер – «человек без сердца», как написал бы А. С. Пушкин. В пьесе постепенно раскрывалась его сильная и подчиняющая себе воля, из-за которой Петр был не способен учитывать настоящие интересы и потребности общественных групп, участвующих в реформировании страны:
«Измену чую повсюду, падалью смердит… Шведы, шведы, морок проклятый. Кабы не шведы, мы б теперь с Голландией, с Неметчиной, и с Англией, и с королем французским торговали… Разорение, – войне конца не видно. <…> Но хочу видеть у людей думу о пользе государственной – не одно воровство… Не служат, не работают – кормятся. Русские мне шведа страшнее…»3.
Отношения между самими группами, представленными в пьесе, были также выдержаны в логике классовой борьбы между «угнетателями» и «угнетенными», все больше обострявшейся по мере продолжения реформ Петра. В первой же сцене казни стрельцов были представлены все группы, не принимающие ни Петра, ни его «иностранное» и незнатное окружение в виде полковника Гордона, Лефорта, князя Ромодановского, князя Голицына, боярина Шеина, и, конечно, Алексашки Меншикова. Это в первую очередь сами стрельцы, которые ушли бы на Дон, «кабы не хозяйство», квасное боярство, пытающееся сберечь традиционные устои и недовольное усилением безродного Меншикова, а также поборники православной веры: попы и юродивый.
Во-вторых, в пьесе присутствовал народный взгляд на Петра I как на антихриста, человека звериной злости – и безумного, и гениального одновременно. Царь был показан как реформатор, готовый на любые жертвы ради просвещения русского народа: «Какой же еще крови нужно, чтоб в разум вошли?»4 – одна из его частых реплик. В такой утрированной трактовке он излучал нервное напряжение взглядом и движениями и напоминал, скорее, «вечно-одинокого исполина на обледенелой глыбе финского гранита», как у Д. С. Мережковского5. Как общий знаменатель – отталкивающие физиологические и психологические особенности в образе Петра, его склонность к насилию – изображали многие писатели 1920-х годов, обращавшиеся к этой эпохе: Б. А. Пильняк («Его Величество Kneeb Piter Komondor»), Д. С. Мережковский («Антихрист. Петр и Алексей»), М. А. Волошин («Россия»), Ю. Н. Тынянов («Восковая персона»), Н. А. Бердяев («Русская идея»). Также, продолжая традицию вышеназванных авторов, между строк пьесы, на наш взгляд, имплицитно были заложены намеки на перегибы первых лет установ- ления большевистской власти, продразверстки в период военного коммунизма, засухи и голода 1921–1922 годов, который глубоко потряс А. Н. Толстого, находившегося на тот момент в эмиграции:
«Меншиков: Я гетману Мазепе отписал, – хлеб повезем с Украины. С Дона – пшеницу потянем.
Апраксин: А как мужики не дадут? <…>
Меншиков: Дадут… А драгуны на что?»6.
«СТРОЙКОЙ ОТКРЫВАЕТСЯ ПЬЕСА, ОДИНОЧЕСТВОМ ПЕТРА ЗАВЕРШАЕТСЯ»: ПОИСК ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ СОВЕТИЗАЦИИ ЦАРЯ
Как уже было отмечено, пьеса вызвала оживленную критику членов РАПП – политически сильной на тот момент литературной организации. На наш взгляд, в силу подчеркнуто славянофильской риторики описания жестокости Петровских реформ, встречающейся в пьесе, они увидели в ней не литературную традицию 1920-х годов, а прямую критику власти, своего рода памфлет на первые годы правления большевиков.
«Петровская эпоха ломала, преобразовывала, строила. В этом – ее пафос, в котором нетрудно уловить смыслы, внешне созвучные борьбе и напряжениям современности»7 [2: 31],
– заключил в своей рецензии начинающий писатель, член иркутского РАПП, В. М. Блюменфельд. В продолжение своей рецензии он пришел к следующему выводу:
«И недаром в конце пьесы стоит такой же символ, что и в начале – только с обратным знаком: стройкой открывается пьеса, одиночеством Петра пьеса завершается. Это похоже на дурное предзнаменование для современника, и во всяком случае логика “Петра I”, развивающая идею одинокого исторического борца, крайне далека от революционного оптимизма, реакционна в своей сущности, ни в какой мере не может удовлетворить нашего представления о законах исторического развития»8.
В. М. Блюменфельд винил А. Н. Толстого в «хроникальности», излишней «демократизации» царя, поверхностности его конфликта с сыном Алексеем, а также в «индивидуалистическом ядре» пьесы. Иными словами, писал о том, что в пьесе не хватает четкой прорисовки классовых интересов дворянства, купечества и крестьянства, вследствие чего как Петр не может опереться на определенный класс, так и между самими классами невозможно развить идею конфликта. Автор рецензии подчеркивал, что без этого классового конфликта обращение к истории Петровского времени с точки зрения марксистской логики не выполняет своей главной функции. Однако если социальное одиночество и отсутствие движущей социальной силы эпохи отмечали и подвергали критике все литературоведы и писатели РАПП, то путь к выстраиванию «верного» советского нарратива о Петре I авторы представляли себе по-разному.
В рецензии критика и драматурга Л. Н. Чернявского, напечатанной в «Правде», главным пунктом критики являлась вычурная стилизация Петровской эпохи в пьесе, напоминающая «мережковщину», «буржуазно-сменовеховские элементы»9. Автор рецензии также не увидел классового конфликта. В доработанном варианте пьесы он предлагал показать противостояние двух сил. С одной стороны, это силы «торгового капитализма», представителям которого Петр I позволял строить мануфактуры, заводить ремесла в стране. С другой стороны, все остальные классы, сопротивляющиеся этим нововведениям. Л. Н. Чернявский опирался в данном случае на историографическую позицию школы М. Н. Покровского, который объяснял логику реформ Петра I через те хозяйственноэкономические нужды, которые естественным образом появились в России вследствие развития европейской торговли в XVII веке [7: 69]. Следовательно, купцы и дворяне, владельцы первых русских фабрик, должны были по данной логике стать основной поддержкой Петровских реформ.
Другой литературовед и театральный критик, член РАПП М. В. Бертенсон в газете «Труд» осуждал новую пьесу за «буржуазный либерализм» и «сменовеховскую психологию»10. Он тоже критиковал утрированную параллель между Петровскими реформами и современностью, а также «социальную изолированность» Петра:
«У Толстого против Петра – все и вся. Обнищавший, замученный народ, чьими костями устланы финские болота; реакционное боярство и кликушествующее духовенство; родной сын и жена-простолюдинка Марта, Петром возведенная в Екатерину I, даже новая знать, впервые появившаяся на исторической арене»11.
Путь выстраивания верной формулы Петра I автор видел в опоре на взгляды М. Н. Покровского:
«Основная идея пьесы <…> вынудила Толстого обойти молчанием и связь реформ Петра со всеми предшествующими ему попытками европеизации России и не заметить тех классовых сил, которыми Петр был исторически выдвинут для выполнения своей государственной роли»12.
М. В. Бертенсон считал при этом удачным, что через «жанровые зарисовки» передавалось противоречие разных хозяйственных практик в государстве, «нового и старого в области быта», ссылаясь буквально на цитату М. Н. Покровского: «“Двор” изменился сильнее, чем “город”, а “деревня” совсем не изменилась»13.
Было несколько рецензий, авторы которых указывали на контрреволюционность пьесы, акцентируя внимание на факте эмиграции А. Н. Толстого в годы Гражданской войны: «Вчерашний правый попутчик Алексей Николаевич Толстой “просто так” вдруг заинтересовался личностью Петра I?»14, – задавался вопросом, к примеру, советский кинодраматург И. С. Бачелис. Его основной тезис заключался в том, что своей постановкой А. Н. Толстой будто бы ищет ответ на вопрос, в чем «можно найти “оправдание” для пролетарской революции» из истории. И. С. Бачелис напрямую связывал такую постановку вопроса с происхождением писателя, называл его «певцом разорившегося и оскудевшего дворянства», «мелкобуржуазным попутчиком» и характеризовал всю постановку в целом как «злобную, бешеную вылазку классового врага, прикрытую искусной маской фальшивой “историчности”»15.
Многих литераторов волновало отсутствие концепции в пьесе, которая бы объединила все полярные оценки образа Петра I воедино. Даже если эта новая оценка была бы представлена в негативном свете. К примеру, театральный критик В. М. Млечин, критикуя пьесу за ее лубочность, то есть искусственно соединенные сказочные нарративы о биографии царя, писал:
«А. Н. Толстой и режиссер Б. М. Сушкевич не смогли показать внутреннюю несостоятельность, поверхностность и половинчатость петровских реформ, забытых или отмененных почти в день смерти “Саардамского плотника”. И для “разоблачения” Петра I Толстой навел несколько густых и мрачных штрихов на психический облик Петра»16.
Называя Петра «Саардамским плотником», В. М. Млечин цитировал название романа П. М. Фурманова и тем самым иронизировал над традицией русского исторического романа конца XIX века, где в центре Петровского мифа находилась легенда о чудесном путешествии обычного ремесленника Петра Михайлова по Европе, мечтавшего научиться строить корабли. Детские книги П. М. Фурманова были широко распространены в дворянской среде, например, их читали в семье Турбиных в известном романе М. А. Булгакова. Скорее всего, хорошо образованные критики и литераторы 1920-х годов их тоже читали в юности и, преследуя популярную в советской критике этого времени народническую традицию, осуждали за примитивность оценок. В. М. Млечин искал настоящей критики реформ Петра I, которые пока просматривались в пьесе, по его мнению, только стилистически.
ВЫВОДЫ
Рассмотренные тексты позволяют сделать несколько выводов, характеризующих процесс советизации образа Петра I на начальном этапе. Во-первых, следует отметить общую заинтересованность всех критиков в необходимости найти правильную формулу для советизации Петра. Общим лейтмотивом рассмотренных критических рецензий являлось непонимание А. Н. Толстым целей реформ Петра I, их исторической функции. При этом никто из критиков не решался представить свое видение единой концепции Петровского времени, кроме тех, кто ссылался на позиции М. Н. Покровского, публичная критика которого, как известно, начнется с января 1936 года. Во-вторых, в критических рецензиях было очень мало рассуждений непосредственно о сильных и слабых сторонах самой театральной постановки: о режиссерских решениях Б. М. Сушкевича, о декоративном оформлении пьесы И. И. Нивинским, об игре актеров. Как этот факт, так и большое количество внимания со стороны политических органов и лично И. В. Сталина говорит о высокой степени политизированности споров вокруг поиска правильной исторической трактовки Петровского мифа, в которых художественный язык автора и его литературный стиль выступали, скорее, фоном. В-третьих, оценивая представленный образ Петра I как исторически неверный, критики пьесы «На дыбе» прибегали к обсуждению волновавших в то время представителей литературного сообщества тем. Указывая на буржуазное происхождение писателя, они использовали охранительную риторику, имплицитно продолжая критиковать либеральных писателей и публицистов, бывших участников сборника «Вехи», а вслед за ними и политэмигрантов, «сменовеховцев», которые в своих текстах нередко рассматривали Октябрьскую революцию как национальный позор и катастрофу для русского народа. Называя А. Н. Толстого «сменовеховцем», некоторые критики подчеркивали его преемственность со славянофилами – отмечали у писателя «неумение по-настоящему показать “героя” русской истории, не по Илловайскому»17, актуализируя негативные ассоциации, имплицитно присущие культурной памяти о Петре I, а также воспринимали такую тенденцию как памфлет на советскую власть.
Список литературы Советизация Петра I в пьесе А. Н. Толстого "На дыбе": поиск марксистской формулы образа царя
- Анисимов Е. В. Алексей Толстой и судьба его романа «Петр Первый» в литературе, науке и на экране // Историческая память и общество в Российской империи и Советском Союзе (конец XIX - нач. XX века). СПб., 2007. С. 5-12.
- Бранденбергер Д. Кризис Сталинского агитпропа: Пропаганда, политпросвещение и террор в СССР, 1927-1941. М.: РОССПЭН, 2017. 365 с.
- Варламов А. Н. Алексей Толстой. М.: Молодая гвардия, 2008. 592 с.
- Добренко Е . А . Музей революции. Советское кино и сталинский исторический нарратив. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 424 с.
- Дубровский А . М . Историк и власть. Брянск, 2005. 800 с.
- Кара-Мурза А. А., Поляков Л. В. Россия и Петр // Петр Великий: pro et contra. СПб.: РХГИ, 2003. С. 670-708.
- Покровский М. Н. Русская история: В 3 т. Т. 2. СПб.: ООО «Издательство «Полигон», 2002. 383 с.
- Шенк Ф. Б. Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, национальный герой (1263-2000). М.: Новое литературное обозрение, 2007. 592 с.
- Platt K. М. F. Rehabilitation and afterimage: Aleksei Tolstoi's many returns to Peter the Great // Epic revisionism: Russian history and literature as Stalinist propaganda. Madison, 2006. P. 47-68.
- Platt K. M. F. Terror and greatness: Ivan and Peter as Russian myths. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2011. 294 p.
- Riasanovsky N. V. The image of Peter the Great in Russian history and thought. Oxford University Press, 1992. 342 p.