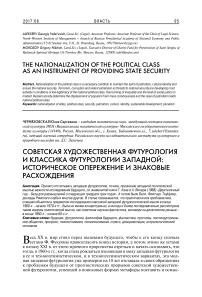Советская художественная футурология и классика футурологии западной: историческое опережение и знаковые расхождения
Автор: Черняховская Юлия Сергеевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 6, 2017 года.
Бесплатный доступ
Принято отсчитывать западную футурологию, точнее, признание западной политической мыслью важности исследования будущего, со знаменитой книги Г. Кана и А. Винера (1968) «Двухтысячный год - база для размышлений о следующих тридцати трех годах». А потом были Белл, Флетчер, Тоффлер, доклады Римского клуба и многое другое. В статье показывается, что практически вся проблематика, ставшая объектом и предметом исследования классикой западной футурологической мысли в конце 1960-х - начале 1970-х гг., была не менее концептуально, а иногда и более последовательно рассмотрена таким жанром политической мысли, как советская научная фантастика, минимум на десятилетие раньше - в конце 1950-х - начале 60-х гг.
Будущее, футурология, философия будущего, фантастика, прогнозы, постиндустриальное общество, прогресс, технооптимизм, технопессимизм, стресс, дезориентация, антропологический оптимизм
Короткий адрес: https://sciup.org/170168835
IDR: 170168835
Текст научной статьи Советская художественная футурология и классика футурологии западной: историческое опережение и знаковые расхождения
Весь XX в. мир стоял перед вызовами будущего, чтобы к его концу сначала устами Ф. Фукуямы провозгласить конец истории, а потом этими же устами к началу XXI в. от этого мрачного пророчества отречься и начать осознавать, что тогда, в 1960-е гг., когда стала рождаться входившая в моду западная футурология в ее и технооптимистическом, и в технопессимистическом вариантах, эта модная западная футурология уже примерно на 10 лет отставала в своих обращениях к проблемам будущего от прогностических прорывов советской художественной футурологии, успевшей в поисковых формах метафоры поставить и осмыс- лить всю ту основную проблематику будущего, которую западные политологи начали только примерно с 1968 г. – с момента выхода знаменитого труда Г. Кана и А. Винера «Двухтысячный год – база для размышлений о следующих тридцати трех годах».
Интересно хронологическое совпадение выхода в свет в начале XXI в. двух крупных работ – Антологии современной классической прогностики под ред. И.В. Бестужева-Лады [Впереди – XXI век... 2000] и диалектически противостоящего ей «Глобального политического прогнозирования» А.С. Панарина [Панарин 2002].
И.В. Бестужев-Лада относит момент, когда будущее становится предметом серьезного научного исследования, к 1960-м гг. [Бестужев-Лада 2000: 10]. И в качестве «первого из авторов “футурологического бестселлера № 1”»1 называет Г. Кана с книгой «Двухтысячный год – база для размышлений о следующих тридцати трех годах» (1967 г., в СССР издана под грифом ДСП в 1969 г) [Кан, Винер 1969: 38-39].
Ее появление принято считать началом течения технооптимизма, вскоре сменившегося технопессимизмом, обозначенным «Шоком будущего» О. Тоффлера. В 1960–1970 гг. выходят и становятся известными труды и других западных футурологов [McHale 1969: 266-300; Flechtheim 1970: 311-397; Galtung 1980: 87-94; Янч 1974: 22-30]. О. Флехтгейм первым вводит термин «футурология», противопоставляя ее идеологии, по его мнению, оправдывающей существующий режим, и утопии – его отвергающей. Правда, следует отметить, что основные выводы О. Флехтгейма были опровергнуты Г. Маркузе еще в 1970 г. [Маркузе 2004; Marcuse 1970].
И.В. Бестужев-Лада пишет, что многие оптимистические прогнозы Г. Кана вызвали сомнения. Получалось, что мир XXI в. для большинства стран – мир середины XIX или даже XVIII в. [Мир нашего завтра… 2003: 30], а технооптимизм Г. Кана касался только США. Это отмечал и А.С. Панарин, констатировавший кризис данного направления прогнозирования: «Настоящее поражение модерна начинается тогда, когда он выступает как игра с нулевой суммой: если прогресс для одних оказывается регрессом для других, если порядок и хаос, цивилизованность и варварство, современность и архаика взаимно предполагают друг друга» [Панарин 2002: 200].
Однако нужно иметь в виду, что футурологическую модель Г. Кана и А. Винера вряд ли стоит оценивать как апологетику оптимизма. Авторы писали лишь о том, что для такого варианта будущего имеются «некоторые возможности, которые часто связывают с концепцией “постиндустриального” общества. Этот термин, введенный Дэниэлом Беллом, говорит о таких изменениях в будущем, которые могут быть не менее важными, чем вызванные индустриализацией в XVIII и начале XIX столетий» [Кан, Винер 1969: 67-68].
Хотя футурологические работы 1960–70-х гг. опирались на несравнимо более значимую научную базу, чем утопии прошлого, нет оснований утверждать, что они дали существенно более точные прогнозы. Большая часть упреков, адресованных утопиям, в значительной степени могут адресоваться и футурологическим доктринам.
Даже форма работ футурологов и утопистов сопоставима. При всех атрибутах научности «Года двухтысячного», переводчики были вынуждены предварить издание строками, уместными в начале фантастического романа: «Текст книги
Г. Кана и А. Винера оставляет впечатление продиктованного на диктофон и плохо отредактированного авторами. Следствием этого являются неточные формулировки, повторы и другие шероховатости перевода. Редакторы не сочли возможным вносить свои изменения в текст и сохранили его, по возможности, близким к оригиналу» [Кан, Винер 1969: 3].
«Постиндустриальное общество в стандартном мире. Мы разберем большинство из этих пунктов, просто упомянув их или иногда высказав предположение об их значении, не пытаясь придерживаться какой-либо системы или дать исчерпывающий ответ» [Кан, Винер 1969: 383].
Авторы «Года двухтысячного» строили свои прогнозы на основании расчетов и анализа современных им тенденций в рамках признания принятого ими общего вектора развития как единственно возможного, тогда как автор «Глобального политического прогнозирования» имел возможность наблюдать и подводить итог тому, к чему привел данный вектор, но исходил из предположения о возможности и желательности поиска других параметров и цивилизационных оснований развития.
Если первое представляло собственно классическую футурологию, второе носило характер своего рода политической философии будущего.
Однако тенденции, обрисованные футурологами в конце 1960–1970-х гг., уже были описаны почти за десятилетие до этого в советской научно-фантастической литературе, в частности в произведениях А. и Б. Стругацких1. Написанная в 1961 и изданная в 1962 г. книга «Возвращение (Полдень, XXII век)»2 уже является развернутым описанием мира будущего – общественного устройства XXII в: освобождение человека с помощью техники от изнурительных видов труда, перенесение центра его деятельности на науку и производство новых технологий, включая перечисленные ранее черты «постиндустриального общества».
Причем в описанном ими обществе нет проблемы, чем занимаются 80% не занятых в производстве людей, – они заняты в науке, искусстве, медицине и воспитании. Там нет проблемы недостатка материального потребления, но это не «общество потребления» и не «общество досуга» – это «общество познания».
В плане социально-философского прогнозирования в постановке проблем и предложении их разрешения они явно опережали поиски западных футурологов. Польский исследователь В. Койтох высказывал мнение, что «Возвращение» было лишь иллюстрацией принятой в 1961 г. 3-й Программы КПСС. Тогда нужно признать: данная Программа в плане научно-футурологического значения явно опережала и превосходила все последующие классические работы футурологов – Г. Кана, Д. Белла. О. Тоффлера и др. Впрочем, даты опровергают версию В. Койтоха: к 1961 г. книга А. и Б. Стругацких была написана и частично опубликована: в 1959 г. опубликованы главы «Скатерть-самобранка», «Десантники» и «Поражение», в 1960 – «Ночь на Марсе», «Почти такие же», «Глубокий поиск» и т.д. В центре концепции О. Тоффлера стоит феномен «шока от будущего», стресса и дезориентации, возникающих у человека, подверженного большому числу перемен, боязнь будущего, появлявшаяся у его современников [Тоффлер 2008: 34].
Однако тема недостаточности сугубо научно-технических решений про- блем человечества начинает подниматься А. и Б. Стругацкими уже в середине 1960-х гг.
В работах этого времени они утверждают, что решение проблем материального изобилия не создает автоматически идеального, свободного человека, что без воспитания нового человека техника и наука окажутся обреченными служить всем старым устремлениям и порокам, что может привести к подчинению человека приобретающим все более извращенный характер примитивным потребностям, опуская человека до уровня животного.
Поднимают они и тему готовности или неготовности человека встретиться с будущим: о том, что он может искать его, мечтать о нем, но не узнать его, когда оно наступит, и испытать шок1 от встречи с ним.
Эти примеры опережения позволяют выдвигать предположение об особых познавательных возможностях такой формы осмысления действительности, как художественно-политическое моделирование, т.е. создание модели политического устройства общества с помощью художественных средств – образов, метафор и т.д., особенно если учесть, что сама метафора в науке рассматривается как «неназванное сравнение» и латентно несет в себе начало компаративистики.
В этом отношении особый интерес представляет книга Б. де Жувенеля «Искусство предположения», фрагмент из которой был опубликован в упоминавшейся Антологии современной классической прогностики [Жувенель 2003]. Анализируя разные способы предсказания, такие как перенесение на будущее умозаключений, основанных на сегодняшнем опыте; пролонгация существующей тенденции; аналогия, основанная на перенесении в будущее закономерностей, выявленных в прошлом; «колея», предполагающая, что отстающие в своем развитии страны с неизбежностью и высокой степенью повторяемости проходят путь стран, их обогнавших; причинность, предполагающая, что одни и те же причины, приведшие к известным последствиям в прошлом, с неизбежностью приведут к тем же и в будущем; «априоризм» и «системность», он последовательно показывает расхождения сделанных в их рамках предсказаний с действительным ходом истории. И его выводом в значительной степени становится положение, вынесенное в название работы: исключительно рациональных оснований оказывается недостаточно для успешного предположения о будущем, которое становится возможным только именно при дополнении его «искусством предположения».
Возможно, это связано именно с тем, что основанные на измеряемых показателях прогнозы имеют смысл только применительно к определенным ситуациям, тогда как применительно к будущему никто не может поручиться, что обстоятельства окажутся именно такими, а не иными. Тот же де Жувенель отмечает, что любые однозначные утверждения, отнесенные к будущему, в принципе оказываются по ту сторону правды и лжи. Применительно к конструированию будущего ученый оказывается в ситуации, описанной Ортегой-и-Гассетом: использование метафоры, т.е. художественного приема, дополняющего научное знание, оказывается более эффективным, чем строго рациональное логическое построение.
Возможно, именно поэтому советская научная фантастика 1950–1960-х гг., использующая приемы художественного моделирования, но в исходных посылках по определению не выходящая за рамки имевшихся научных данных, оказалась способной к опережающему по сравнению с западной футурологией осмыслению социальных и политических проблем будущего.
Список литературы Советская художественная футурология и классика футурологии западной: историческое опережение и знаковые расхождения
- Бестужев-Лада И.В. 2000а. Обязательное предисловие. -Впереди -XXI век: перспективы, прогнозы, футурологии: антология современной классической прогностики (под ред. И.В. Бестужева-Лада). М.: Academia. С. 6-23
- Бестужев-Лада И.В. 2000б. Что мы знаем о XXI веке? И каким образом? -Впереди -XXI век: перспективы, прогнозы, футурологии: антология современной классической прогностики (под ред. И.В. Бестужева-Лада). М.: Academia. С. 23-50
- Жувенель, де. Б. Искусство предположения. -Впереди -XXI век: перспективы, прогнозы, футурологии (под ред. И.В. Бестужева-Лада). М.: Academia. С. 102-128
- Кан Г., Винер А. 1969. Двухтысячный год -база для размышлений о следующих тридцати трех годах. М.: ВНИЦИ. 867 с
- Маркузе Г. 2004. Конец утопии. -Логос. № 6(45). С. 18-23
- Мир нашего завтра: антология современной классической прогностики (под ред. И.В. Бестужева-Лада). 2003. М.: Эксмо. 512 с
- Янч Э. 1974. Прогнозирование научно-технического прогресса. 2-е изд. М.: Прогресс. 586 с
- Galtung J. 1980. The True Worlds: Transnational Perspective. N.Y.: Free Press
- McHale J. 1969. The Future of the Future. N.Y.: George Braziller