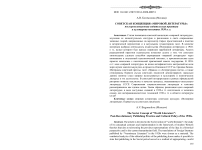Советская концепция "мировой литературы": послереволюционная издательская практика и культурная политика 1930-х гг.
Автор: Богомолова Анна Вадимовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (54), 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена советской концепции «мировой литературы», изучению ее концептуальных контуров и реализации в свете современных западных теорий, направленных на пересмотр старых представлений о понятии в исторической перспективе и в актуальном гуманитарном поле. В качестве материала выбрана деятельность издательства «Всемирная литература» в 1920- е гг., целью которого был выпуск переводов зарубежной литературы. Анализ редакционной практики издательства позволяет судить о том, что советское книгоиздание служило способом апроприации «мировой литературы» через вписывание в актуальный идеологический контекст, а просветительские цели проекта сочетались с политической прагматикой нового государства. В 1930- е гг. идея «мировой литературы» на волне антифашистских настроений во всем мире играла значительную роль в процессе сближения СССР со странами Запада. Материалы советской прессы, газет «Правда» и «Литературная газета», а также стенограммы Первого съезда советских писателей демонстрируют, насколько данное понятие стало широко использоваться в культурном и политическом дискурсе в это десятилетие. В советской интерпретации в рамках официальной риторики понятие мыслилось в качестве процесса, охватывающего актуальную литературу СССР. Современная социалистическая литература и классика рассматривались как единое целое. Таким образом, реализация идеи «мировой литературы» в виде доступных изданий в 1920-е гг. подготовила и заложила основу для интернационалистских тенденций 1930-х гг. в области литературы СССР.
Мировая литература, советская культура,
Короткий адрес: https://sciup.org/149127450
IDR: 149127450 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00074
Текст научной статьи Советская концепция "мировой литературы": послереволюционная издательская практика и культурная политика 1930-х гг.
За последние два десятилетия вокруг идеи «мировой литературы» развернулись дебаты в академической среде. Космополитическая и транснациональная в своей основе концепция была поставлена под сомнение большинством западных ученых, т.к. существующие к началу XXI в. образовательные, издательские, исследовательские практики демонстрировали очевидную ориентацию на культуру стран Запада. Реактуализации идеи «мировой литературы» как теоретической проблемы посвящены работы Д. Дэмроша, Ф. Моретти, Г. Спивак, Э. Аптер, Г. Вируса, Д. Пизера и др. Исследователи, несмотря на принципиальные расхождения во взгляде на современное состояние дисциплины компаративных исследований литературы, подчеркивают необходимость не только проблематизации «мировой литературы» в контексте современной науки, но также критики и переосмысления понятия в прошлом. В связи с этим одним из направлений исследования «мировой литературы» сегодня является изучение истоков идеи, ее форм бытования и реализации после Гете. Ретроспективный взгляд на идею «мировой литературы» и критическая оценка связанных с ней культурных практик, которым наследует современное литературоведение, по мнению большинства исследователей, делает возможным дальнейшее изучение той глобальной литературной системы, которая сложилась в XXI в.
До недавнего времени участники дискуссий о «мировой литературе» не обращались к советской культуре. Но за последнее десятилетие появились работы Ж. Давида [David 2011, 115-142], М. Хотимской [Khotimsky 2013, 119-154], К. Кларк [Кларк 2018], в которых внимание обращено на связь советского культурного проекта и идеи «мировой литературы». На протяжении всей истории СССР понятие концептуально определяло проекты разных уровней: от массового издания переводов классики с момента возникновения «Всемирной литературы» в 1918 г. до создания научно-исследовательских институтов - Института мировой литературы имени А.М. Горького, существующего и сегодня. Проекты, реализовавшие
идею «мировой литературы», стали важнейшим феноменом советской культуры и оказали влияние на формирование издательских и читательских практик, отношение и восприятие культур других стран, во многом определили исследовательское поле в области компаративистики. Все это накладывает отпечаток и на современную культуру, в особенности стран постсоветского пространства.
В данной статье мы обратимся к советской концепции «мировой литературы» в 1920-1930-е гг, в частности к ее реализации в крупном издательском проекте «Всемирная литература» и интерпретации в рамках официального дискурса, в прессе и на материале выступлений делегатов Первого съезда советских писателей. Основная задача настоящего исследования - проследить развитие представлений о «мировой литературе» в культуре СССР в соотношении с политической конъюнктурой.
«Мировая литература» в издательском деле
Уже после революции идея Гете, актуализированная в работах Маркса и Энгельса, стала частью советского культурного проекта. Новое советское государство, стремящееся к политической гегемонии в мире, обращалось в ходе своей истории к беспрецедентным по размаху проектам в области идеологии и культуры, которые освещали «мировые» идеи. К их числу наравне с идеей «мировой революции», которая лежала в основе советской внешней политики первых лет и в революционной миссии Коминтерна на международном уровне, относится и «мировая литература». Если на первых порах становления нового режима вопрос наследия буржуазной культуры и отношения к нему советской культуры был спорным, то уже после революции позиция большинства идеологов государства состояла в том, что новая культура должна базироваться на наиболее прогрессивных достижениях буржуазного общества. Ленин в проекте резолюции Пролеткульта 1920 г. отмечал, что именно усвоение и переработка всего, накопленного в истории позволило марксизму обрести всемирно-историческое значение [Ленин 1981, 336-337]. Ленинская идея «двух культур» также поддерживала необходимость включения старой буржуазной культуры как материала для критического переосмысления и необходимой основы для развития прогрессивной интернациональной социалистической культуры.
В рамках проекта построения новой советской культуры идея «мировой литературы» обрела не только иные концептуальные рамки, но и конкретные способы реализации. В 1919 г. Горький основал издательство «Всемирная литература», целью которого был выпуск лучших произведений мировой художественной литературы XVIII XX вв. По замыслу писателя изданные книги должны были составить «обширную историко-литературную хрестоматию, которая даст читателю возможность подробно ознакомиться с возникновением, творчеством и падением литературных школ, с развитием техники стиха и прозы, со взаимным влиянием литературы различных наций и, вообще, всем ходом литературной эволюции в ее исторической последовательности» [Каталог 1919, 9]. Первоначально было запланировано издание двух серий книг (основной и народной библиотеки), охватывающих литературы Англии и Америки, Австрии, Германии, Скандинавских стран, Голландии, Швейцарии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Бельгии и Латинской Америки.
26 апреля 1919 г. в письме к В.В. Воровскому, заведующему Государственным издательством, Горький дал текущее описание проекта: «Это - огромная работа, и, конечно, она хорошо поставит Советскую власть в глазах интеллигенции Западной Европы. Но еще более крупным я считаю агитационное значение “Всемирной литературы”, которая охватывает в нашем плане все, что создано европейской мыслью от Вольтера до Анатоля Франса, от Свифта до Уэллса, от Гете до Рихарда Демеля и т.д.» [Хлебников 1971, 677]. Горький неоднократно подчеркивал именно внешнюю сторону работы «Всемирной литературы», репутационную и агитационную. К похожим аргументам писатель прибегал в переговорах по вопросам финансов и снабжения бумагой. В том же письме Воровскому Горький сообщает: «На днях будет готов наш проспект, напечатанный по-английски, по-немецки и по-французски, мы посылаем его во все страны: в Германию, Францию, Америку, Италию, Англию, скандинавам и пр. Как видите - задача грандиозная, и никто еще до сей поры не брался за ее осуществление, никто в Европе. Этому делу власть должна энергично помогать, ибо пока - это самое крупное и действительно культурное предприятие, которое она может осуществить» [Хлебников 1971, 673]. Таким образом, в основе культурного проекта сплелись горьковская тяга к просветительству и «культурному строительству» с четким пониманием конъюнктуры.
Участие в культурном предприятии, не имевшем по масштабу аналогов в мире, было поводом для демонстрации масштабов революционных преобразований в Союзе. Пропагандистская роль работы издательства позволяла, получив одобрение руководства страны и финансовую поддержку, не только выпускать книги, но и выживать - держаться вместе писателям разных убеждений и взглядов в первые годы после революции. Ярким свидетельством царившей в то время обстановки стала запись в дневнике Е.И. Замятина: «Веселая, жуткая зима 1917-1918 гг, когда все сдвинулось, поплыло куда-то в неизвестность. Корабли-дома, выстрелы, обыски, ночные дежурства, домовые клубы. Позже - бестрамвайные улицы, длинные вереницы людей с мешками, десятки верст в день, буржуйка, селедки, смолотый на кофейной мельнице овес. И рядом с овсом - всяческие всемирные затеи: издать всех классиков всех времен и всех народов, объединить всех деятелей всех искусств, дать на театре всю историю всего мира» [Замятин 2003, 27].
Хотимская отмечает [Khotimsky 2013, 123], что «Всемирная литература» имела своих предшественников в дореволюционные годы. 158

На замысел Горького могли оказать влияние опыты Д.С. Мережковского и В.Я. Брюсова. Сборник «Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы» 1897 г. содержал очерки Мережковского о писателях разных эпох и стран. Но издательские стратегии «Всемирной литературы» принципиально отличались от редакторской практики дореволюционных проектов. Основной задачей было дать советскому читателю новые переводы или в редких случаях отредактированные и переработанные заново старые переводы, сопроводив их текстами научно-вспомогательного аппарата издания [Хлебников 1971, 668] (предисловием, вступительными статьями, примечаниями и комментарием) и идеологически обосновывая их место и значение в истории.
После закрытия «Всемирной литературы» в 1924 г. многочисленные нэповские издательства выполняли функцию ознакомления советских читателей с современными тенденциями европейской культуры [Маликова 2013, 42]. В дальнейшем задачу реализации идеи «мировой литературы» через издание «систематической библиотеки произведений мировой <...> литературы» [«Academia» 1980, 20] продолжило издательство «Academia», которое к концу 1920-х гг. было переориентировано на выпуск классики и наследовало издательский портфель «Всемирной литературы». Л.Б. Каменев, глава издательства с 1932 г, определяя «мировую литературу» как «сокровищницу», заявлял, что задача издательства овладеть и критически переработать ее содержание: «Вводя классические произведения чуждых нам эпох человеческой истории в круг внимания нового человека социалистической культуры, мы хотели бы дать последнему не только текст памятника, но и пояснение его значения в истории человеческой мысли, роли в ходе общественной борьбы, ценности, которая заставляет нас снять этот памятник с полки истории и ввести его в круговорот современной идейной борьбы» [«Academia» 1980, 2]. Снимая тексты памятников «мировой литературы» с полки истории, советское книгоиздание этих лет служило способом апроприации «мировой литературы» через вписывание в актуальный идеологический контекст. Такой подход к книгоиздательской и редакционной практике сохранился на протяжении всей истории СССР.
Ж. Давид в одной из глав своей книги [David 2011, 128], посвященной издательским проектам в Петрограде 1918 г, выдвигает тезис о том, что закрытие издательства «Всемирная литература» в 1924 г, а фактически, его объединение с «Ленгизом», - поворотной момент, после которого вся дальнейшая «эволюция» идеи «мировой литературы» происходит в тесной связи с эволюцией большевизма. В конце 1920-х -1930-е гг. происходит полная дискредитация идеи «мировой литературы» как таковой в условиях тоталитаризма, возрастания националистических тенденций и ужесточения режима в целом. Однако последующее десятилетие не представляется возможным свести к одному только «тоталитарному нарративу» XX в. Трагический период советской истории, по мнению К. Кларк, также может быть рассмотрен как время беспрецедентной открытости во взаимоотношениях с Западом во внешней политике, время культурного интернационализма как части советской идеологии в контексте «панъевропейского космополитизма» [Кларк 2018, 20]. Концепция же «мировой литературы» играла ключевую роль в этом процессе в рамках культурной политики.
Идея «мировой литературы» в 1930-е гг.
Эволюция идеи «мировой литературы» в это десятилетие происходила в ином политическом и культурном контексте. Приход к власти Гитлера в 1933 г. в Германии и последовавшая за этим событием поляризация мира на «правых» и «левых» поспособствовали сближению советской интеллигенции с западными интеллектуалами на волне антифашистских настроений. Период 1930-х закономерно стал временем многочисленных международных мероприятий, конференций в СССР и Европе. На Парижском конгрессе в защиту культуры, в организации которого активное участие принимал Советский Союз, главной «мантрой» [Кларк 2018, 256] была именно «мировая литература». Если для политической дипломатии Коминтерна характерна ориентация на идею мировой революции, то для культурного сближения в 1930-е гг. была необходима сходная по масштабу концепция - концепция «мировой литературы», которая по-новому актуализировалась в изменяющейся международной обстановке.
Материалы советской прессы, газеты «Правда» и «Литературной газеты», демонстрируют, насколько понятие плотно вошло в советский дискурс. Количественный анализ частотности словоупотребления [Богомолова 2017, 169] позволяет судить о том, что с 1918-1919 гг. «мировая литература» изредка фигурирует в контексте отчетов по работе издательств. Под этим словосочетанием в большинстве случаев понимается литературное наследие прошлых эпох. В 1930-е гг. ситуация кардинально меняется. С 1932 г. можно зафиксировать резкое возрастание использования понятия вплоть до 1935 г. Пик приходится на 1934 г. В «Литературной газете» в 1930-1933 гг. - порядка тридцати упоминаний ежегодно, в 1934 г. - около ста десяти. В газете «Правда» - пять в начале десятилетия и в 1934 г. - тридцать шесть упоминаний. Такой всплеск связан с тем, что в ходе подготовки Первого съезда советских писателей массово выходят тезисы докладов и публицистические тексты, посвященные современному состоянию советской литературы, что также подтверждают архивные материалы переписки А.И. Стецкого с А.А. Ждановым [Максименков 2003, 240], непосредственно принимавших участие в организации мероприятия. В этот же период с новой силой зазвучали призывы к сохранению литературного прошлого. На Пленуме, проходившем с 29 октября по 3 ноября 1932 г. и предваряющем съезд, вопрос о литературном наследии и в особенности наследии иностранных писателей был одним из основных [Нике 2015, 633].
В публикациях 1932-1934 гг. в прессе шла мощная пропаганда идеи

мирового первенства как литературы СССР, так и социалистической литературы в целом. Суждения о современной советской литературе как «мировой» прямо звучали и в большинстве докладов съезда. Доклад К. Радека «Современная мировая литература и задачи пролетарского искусства» [Первый всесоюзный съезд 1934, 302] был посвящен характеристике всей истории литературы вплоть до современности. Главный тезис выступления состоял в том, что мировая буржуазия потеряла монополию в «мировой литературе» из-за возникновения пролетарской литературы во всем мире, а «мировая социалистическая литература» является новой «мировой литературой».
В рамках нового видения концепции, возникшего в связи с международной проблематикой, в 1930-е гг. можно наблюдать соединение двух представлений о «мировой литературе». Первое - понимание «мировой литературы» как суммы текстов прошлого, сложившейся и реализуемой в 1920-е гг. в книгоиздании, и второе - как о нарождающейся передовой социалистической литературе, новой «мировой литературе». В связи с таким взглядом на актуальную литературную ситуацию к советской литературе предъявлялись требования творческого характера. Для достижения мирового статуса перед советскими писателями ставились задачи создания новых типов [Первый всесоюзный съезд 1934, 16], поиска и описания «героев нашего времени» [Первый всесоюзный съезд 1934, 145], должного воплощения ключевых для пролетарской литературы образов.
Таким образом, оценки актуальным явлениям в литературе давались в соотношении с мировым литературным наследием, а вхождение в круг «мировой литературы» ставилось в качестве основной задачи писателей. Понятие обретало значимые новые коннотации и, в первую очередь, мыслилось как процесс, в котором современная советская литература занимает одну из ключевых позиций. Яркой иллюстрацией того, как менялось отношение к классике, а концепция «мировой литературы» обретала черты процесса, происходящего здесь и сейчас, являются статьи посвященные Горькому как при жизни, так и после его смерти. Канонизация Горького происходила через утверждение его мирового писательского статуса. Можно встретить следующие формулировки: «Горький <...> дал мировой литературе такие шедевры мысли и художественного изображения жизни, как <...> “Жизнь Клима Самгина”» [Советская проза 1937, 4] или «творчество Горького открыло собой новую главу всей истории мировой литературы» [Спор 1934, 2].
* * *
Современные дискуссии о «мировой литературе» породили стойкое убеждение ученых в том, что для реактуализации понятия в настоящем необходимо изучить его историю и формы воплощения в прошлом. Советская история концепции является значимой частью общей истории идеи в мире. Понятие «мировая литература» вошло в советский культурный и политический дискурс и стало частью глобального социалистического проекта. Уже в первые послереволюционные годы идея воплощалась в опыте книгоиздания. «Мировая литература» мыслилась как сложившийся корпус классических текстов и как эволюционирующий канон литературных шедевров. Если внимание Гете к литературам других стран было обусловлено практикой культурного взаимообмена и не преследовало политической прагматики, то советская издательская практика первоначально характеризовалась соединением представлений о необходимость оглядываться на литературное прошлое и настоящее других наций с ориентацией на задачу политического характера - построение нового социального порядка. Сплетение романтического и политического, столь характерного для первых десятилетий истории СССР, сочетаются в задачах проекта «Всемирной литературы». Работа по изданию «мировой литературы» стала программным направлением государственного культурного строительства на протяжении всей советской истории, что обеспечило почву для того, чтобы само понятие стало общеизвестным и вошло в культурное сознание советского общества.
По-видимому, именно воплощение идеи «мировой литературы» в виде доступных изданий заложило основу для интернационалистских тенденций 1930-х гг. в области литературы. Первый съезд советских писателей отразил эти тенденции формально, будучи международным событием с участием в нем иностранных гостей, и содержательно в выступлениях участников съезда, включавших интернациональную проблематику. В попытке консолидации левых интеллектуалов Запада и СССР, а также в стремлении обрести гегемонию в области культуры, советская партийная номенклатура и представители интеллигенции прибегли к идее «мировой литературы». На съезде явления современной литературы характеризовались в соотнесении с понятием «мировая литература». Практика вписывания писателей настоящего в круг «мировых» создавала особенное отношение к идее Гете. Для советской культуры 1930-х гг. «мировая литература» обретала черты динамически развивающегося процесса, охватывающего в том числе актуальную литературу. Современность и классика становились вещами одного порядка. Само понятие «мировая литература» к концу 1930-х гг. стало общеупотребительным и настолько плотно вошло в советское культурное и повседневное сознание, что обрело статус монолитной риторической конструкции. Прослеживая историю концепции в его отношении к политической конъюнктуре можно сделать вывод, что, с одной стороны, имея реальное воплощение в форме книг, презентуемых в качестве достояния строителей нового общества, «мировая литература» становится живым элементом созидания новой социалистической культуры. С другой стороны, понятие в 1930-е гг. служило эмблемой культурной политики СССР и частью политического дискурса на международной арене.

Список литературы Советская концепция "мировой литературы": послереволюционная издательская практика и культурная политика 1930-х гг.
- «Academias». 1922-1937: выставка изданий и книжной графики. М., 1980.
- Богомолова А.В. Понятие «мировой литературы» в советском дискурсе 1930-х годов // Русская филология. 28: сборник научных работ молодых филологов. Тарту, 2017. C. 167-177.
- Добренко Е. Формовка советского писателя. Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры. СПб., 1999.
- Дэвид-Фокс М. Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921-1941 годы. М., 2014.
- Замятин Е. Автобиография // Замятин Е. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 1. М., 2003. С. 21-28.
- Каталог издательства «Всемирная литература». П., 1919.
- Кен О. Карл Радек и Бюро Международной Информации ЦК ВКП(Б), 19321934 // Cahiers du Monde russe. 2003. № 44. С. 135-178.
- Кларк К. Москва, четвертый Рим. Сталинизм, космополитизм и эволюция советской культуры (1931-1941). М., 2018.
- Куклин И. Текстология как история мысли и общественная педагогика: «Круглый стол» «Академические издания и массовая литература» // Новое литературное обозрение. 2004. № 66. С. 134-138.
- Ленин В. Полное собрание сочинений. Т. 41. М., 1981.
- Максименков Л. Очерки номенклатурной истории советской литературы (1932-1946). Сталин, Бухарин, Жданов, Щербаков и другие // Вопросы литературы. 2003. № 4. С. 212-258.
- Маликова М.Э. Как было организовано издание современной переводной литературы в советской России в конце 1920-х - первой половине 1930-х годов (На материале деятельности ленинградского кооперативного издательства «Время») // XX век. Тридцатые годы. СПб., 2013. С. 41-132.
- Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50 т. Т. 4. М., 1955.
- Моретти Ф. Дальнее чтение. М., 2016.
- Нике М. «Предварительный съезд» советских писателей в октябре 1932 года и вопрос о литературном наследии // Постижение Запада. Иностранная культура в советской литературе, искусстве и теории. 1917-1941 гг. Исследования и архивные материалы. М., 2015. С. 632-643.
- Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., 1934.
- Советская проза // Литературная газета. 1937. № 59. С. 4.
- Спор о русском языке // Литературная газета. 1934. № 44. С. 2.
- Тиханов Г. Космополитизм в дискурсивном ландшафте модерности: два контекста выражения в эпоху Просвещения // Новое литературное обозрение. 2011. № 4. С. 135-155.
- Хлебников Л.М. Из истории Горьковских издательств: «Всемирная литература» и «Издательство З.И. Гржебина» // Литературное наследство. T. 80. М., 1971. С. 668-703.
- Эккерман И. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., 1981.
- Damrosch D. What is World Literature? Princeton, 2003.
- David J. Spectres de Goethe. Les métamorphoses de la «littérature mondiale». Paris, 2011.
- Debating World Literature. London; New York, 2004.
- Goethe J. W. On World Literature (1927) // World literature: a reader. London; New York, 2013.
- Khotimsky M. World Literature, Soviet Style: A Forgotten Episode in the History of the Idea // AB IMPERIO. 2013. № 3. P. 119-154.