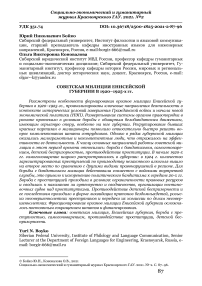Советская милиция Енисейской губернии в 1920–1925-х гг.
Автор: Юрий Николаевич Бойко, Ольга Викторовна Коновалова
Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau
Рубрика: История
Статья в выпуске: 2 (20), 2021 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены особенности формирования органов милиции Енисейской губернии в 1920–1925 гг., проанализированы ключевые направления деятельности в контексте исторических условий завершения Гражданской войны и начала новой экономической политики (НЭП). Развертывание системы органов правопорядка в регионе протекало в условиях борьбы с обширным белобандитским движением, имеющим серьезную опору, особенно на юге губернии. Рекрутирование бывших красных партизан в милиционеры позволило относительно быстро решить вопрос комплектования штата сотрудников. Однако в рядах губернской милиции оказались малограмотные и некомпетентные люди, что отражалось на эффективности ее деятельности. К числу основных направлений работы советской милиции в этот период времени относились: борьба с бандитизмом, самогоноварением, детской беспризорностью, противодействие проституции. В начале 1920-х гг. самогоноварение широко распространилось в губернии: в 1924 г. количество зарегистрированных преступлений по производству незаконного алкоголя вышло на второе место по сравнению с другими видами правонарушений в регионе. Для борьбы с бандитизмом милиция действовала совместно с войсками внутренней службы, это привело к искоренению политического бандитизма к середине 20-х гг. Борьба с проституцией проходила в условиях ограниченности правовых ресурсов и сводилась к наказанию за сутенерство и сводничество, организации постановочных судов над проститутками. Противодействие детской беспризорности и ее последствиям проходило в форме ликвидации притонов бездомных детей, розыска несовершеннолетних преступников и передачи их комиссии по делам несовершеннолетних. Функционирование органов милиции Енисейской губернии осложнялось постоянным сокращением штатов и финансирования.
Советская милиция, Енисейская губерния, борьба с преступностью, самогоноварением, противодействие проституции, детской беспризорности.
Короткий адрес: https://sciup.org/140257869
IDR: 140257869 | УДК: 351.74 | DOI: 10.36718/2500-1825-2021-2-87-96
Текст научной статьи Советская милиция Енисейской губернии в 1920–1925-х гг.
Становление и развитие органов внутренних дел в первой половине 1920-х гг. в Енисейской губернии представляет собой важную и малоисследованную область в изучении правоохранительных структур Сибири. Вместе с тем в этот период происходило формирование организационных структур, кадрового потенциала советской милиции в условиях завершения Гражданской войны, структурная перестройка органов внутренних дел в годы новой экономической политики. Особый интерес представляет изучение деятельности советской милиции по противодействию бандитизму, распространению самогоноварения, проституции и детской беспризорности.
Первые работы, посвященные советской милиции, появились в 1920-е гг., принадлежали перу сотрудников правоохранительных органов и представляли собой короткие обзоры, аналитические очерки, публикуемые в журналах «Рабочекрестьянская милиция», «Жизнь Сибири». Системное изучение роли органов внутренних дел по борьбе с преступностью в Сибири началось в 1960–1980-е гг. и ознаменовано появлением монографии П.Ф. Николаева «Советская милиция Сибири
(1917–1922)», (Омск, 1967 г.) и Н.М. Кучемко «Укрепление социалистической законности в Сибири в годы НЭПа, 1921–1923 гг. (Новосибирск, 1981 г.).
В постсоветский период значительно активизировался процесс научного изучения становления и развития милиции Сибири. Не потеряла своего научного значения научно-популярная работа красноярских исследователей Д.А. Бугаева и Л.С. Жалимова «На службе милицейской», выпущенная в нескольких частях в Красноярске в начале 1990-х гг. В публикациях В.И. Исаева, А.П. Угроватова, Н.А. Харлова освещаются основные этапы становления региональных органов правопорядка. Однако деятельность милиции Енисейской губернии раскрывается, как правило, в контексте общесибирских тенденций развития правоохранительных органов и нуждается в дальнейшей детализации.
В начале января 1920 г. в Красноярске, столице Енисейской губернии, была восстановлена советская власть. Высшим органом власти в регионе стал Сибирский революционный комитет (Сибревком). Созданный в его структуре отдел управления на правах отделения Наркомата внутренних дел (НКВД) РСФСР осуществлял функции руководства рабоче-крестьянской милицией Сибири. В конце января было создано Енисейское губернское управление милиции, которое возглавил И.Г. Деханов [1, c. 257]. Начальник милиции губернии подчинялся заведующему отдела губиспол-кома (на тот момент губревкома), начальнику милиции Сибири, а также НКВД. В уездах органы милиции входили в отделы управления уездных исполкомов на правах подотдела.
Для определения численности милиции на местах Сибревком предложил руководствоваться следующими нормами: в городах расчет кадрового потенциала должен был строиться по принципу – не более одного милиционера на 300 чел. населения, в сельской местности – один сотрудник на 2 тыс. жителей [2, c. 144]. В уездах создавались милицейские районы, в которые обычно входило несколько волостей с общим количеством населения до 50 тыс. человек. Исходя из этого, Красноярский уезд, насчитывающий 21 волость, был поделен на 5 районов; Ачинский и Енисейский уезды были поделены на 8 районов; Канский – на 10 [1, c. 253–257].
В апреле 1920 г. на службе в Енисейской губернии числилось 35 % от положенного по штату служащих, т.е. 1100 чел. из 3045. В той или иной степени некомплект наблюдался во всех городах и уездах, в большинстве случаев составлявший более половины от штатного списка. Так, в Красноярске штат был заполнен только на 44 %, т.е. числилось только 220 чел. По территории губернии некомплект варьировался от 53 % в Канском уезде до 95 % в Туруханском крае. Исключением был Красноярский уезд, в котором на службе находилось 205 милиционеров из 242 положенных по штату и недоставало только 15 %. Ввиду недостаточности отпускаемых средств губернская милиция также испытывала трудности с комплектованием конной милиции: конный отряд из 99 милиционеров (около 50 % от положенного) существовал лишь в Красноярске [3, c. 15–17].
В 1922 г. для повышения качества кадрового состава в сибирские органы правопорядка на руководящие должности были отправлены 274 действующих командира Красной армии. В Енисейскую губернию были распределены двадцать человек, трое из которых стали начальниками уездных милиций, один – начальником отделения, шестнадцать – возглавили милицейские районы [4, c. 115]. Параллельно был взят курс на избавление милиции от неблагожелательных элементов. В результате первой «чистки» осенью 1921 г. количество сотрудников милиции было уменьшено более чем на 60 %: с 3036 до 1100 чел. Следует заметить, что данная мера практически не повлияла на состояние дел, поскольку сокращение произошло за счет вакантных должностей [5, с. 89].
Вторая кампания по сокращению личного состава оказалась более ощутимой, шла на протяжении первой половины 1923 г. и затронула не только милицию, но и школу милицейского комсостава, резерв, а также управление губернского уголовного розыска. Наряду с политическими соображениями она была связана с переводом милиции в 1922 г. на финансирование за счет средств местного бюджета. Такие расходы оказались неподъемными для органов местного управления, поэтому, например, Енисейский губисполком продолжил линию на сокращение штатов милиции и добился к концу 1924 г. более чем десятикратного уменьшения численности личного состава – до 295 человек [4, c. 115].
К апрелю 1925 г. в результате третьей чистки были уволены 11 %, или 48 сотрудников. Из них за антисоветские взгляды – 8 чел.; активное членство в антисоветских партиях – 1; по подозрению в хищениях, взятках – 20, спекуляции, преступлениях по должности, саботаже или использовании служебных полномочий в личных целях – 20; за родственные или деловые связи с нэпманами – 3; наличие судимости или нахождение под следствием – 9; как бывшие белые офицеры – 7 [6, c. 158].
Вместе с тем в рассматриваемый период в Енисейской губернии продолжала сохраняться сложная криминогенная ситуация, в условиях социальноэкономической и политической нестабильности она создавала реальную угрозу для безопасности Советского государства. Летом 1920 г. отряды милиции и красноармейцев под командованием комбрига К.В. Гайдуля были посланы в Ачинский уезд для наведения порядка в Мининской, Погорельской и Шерчульской волостях, сопротивлявшихся призыву своих жителей в Красную армию [4, c. 115].
Крайнюю опасность для Енисейской губернии в первой половине 1920-х гг. представлял бандитизм, изначально имевший сильную антисоветскую подоплеку, с годами трансформировавшийся в уголовную преступность. Осенью 1920 г. сводный отряд из 40 милиционеров и 350–400 красноармейцев под командованием будущего начальника губернской милиции В. Емельяшина принимал активное участие в ликвидации банд на территории Канского уезда. В 1921 г. под командованием начальника Ачинской уездной милиции П.Е. Пруцкого милиция совместно с войсками внутренней службы (ВНУС) участвовала в ликвидации повстанческих отрядов И.Н. Олиферова. Позднее отряд милиционеров под командованием начальника 10-го района Минусинской уездной милиции П.Г. Конопелько уничтожил главаря банды. Той же зимой работники милиции Енисейского уезда совместно с работниками уездной чрезвычайной комиссии (УЧК) ликвидировали банду Портнягина [1, c. 313–314]. В той или иной степени, участие сотрудников милиции в борьбе с политическим бандитизмом в губернии продолжалось вплоть до 1924 г. и закончилось лишь с ликвидацией банды виднейшего деятеля антибольшевистского сопротивления в губернии И.Н. Соловьева. Вклад советской милиции в борьбе с повстанчеством и бандитизмом, как и количество павших в этом противостоянии, еще предстоит установить.
Другим важнейшим направлением деятельности милиции в первой половине 1920-х гг. стала борьба с самогоноварением. Этот вид преступления приносил государству существенный экономический ущерб, так как ежегодно на выгонку самогона тратилось значительное количество зерна. Например, в 1923 г. на выгонку самогона было затрачено 1 млн 800 тыс. пудов зерна, из которых получилось 10 млн 800 тыс. бутылок готового продукта [7, c. 85]. О масштабах явления можно судить по докладу начальника милиции Минусинского уезда в начале 1924 г., где указывалось, что самогоноварением занимаются до 90 % населения подведомственной ему территории [3, c. 223].
19 декабря 1919 г. Совнаркомом было издано Постановление «О воспрещении на территории страны изготовления и продажи спирта, крепких напитков и не относящихся к напиткам спиртосодержащих веществ», в соответствии с которым Сибревком 17 июля 1920 г. выпустил свое постановление о борьбе с тайным винокурением. В нем предписывалось создание при соответствующих продовольственных органах особых уездных троек и волостных комиссий по борьбе с тайным винокурением, а пойманные самогонщики наказывались принудительными работами на срок от 6 месяцев до 2 лет с заключением (или без) в концентрационный лагерь с конфискацией излишков хлеба сверх установленной Наркомпродом нормы. Такие же меры наказания распространялись на членов волостных и сельских ревкомов, сотрудников милиции, попустительствующих самогоноварению. В УК РСФСР 1922 г. появилась статья 140, в которой приготовление спиртного с целью сбыта каралось лишением свободы на 1–3 года и частичной конфискацией имущества. Профессиональные самогонщики и рецидивисты могли получить срок от 3 лет и полную конфискацию имущества. Приготовление спиртных напитков без цели сбыта наказывалось штрафом или принудительными работами.
Поначалу меры борьбы с выгонкой нелегального спиртного имели скорее спонтанный характер и заключались в локальных облавах на самогонщиков, например в отдельных селах. Так, в начале мая 1921 г. в ходе такой облавы в д. Курская Минусинского уезда у 35 жителей были обнаружены и изъяты 17 самогонных аппаратов и по несколько ведер самогона. В свете постановления Сибревкома у крестьян была изъята часть зерна [7, c. 87]. Однако остановить рост преступлений в этой сфере данные меры не помогли.
Формирование правовой основы в сфере производства и оборота незаконного алкоголя, а также четкое определение меры наказания для нарушителей в Уголовном кодексе 1922 г. придали новый импульс в борьбе с самогоноварением. В целях мотивирования сотрудников милиции 20 декабря того же года СНК РСФСР принял постановление, в котором предлагалось перечислять в бюджет милиции 75 % сумм всех штрафов, взымаемых с самогонщиков, продавцов незаконного алкоголя и лиц, появлявшихся в нетрезвом виде в общественных местах [8, c. 114]. Данная политика давала свои плоды: согласно данным на январь 1924 г., сумма взысканных за предыдущий год штрафов составила 1254,78 руб. золотом, из которых на улучшение быта милиционеров пошло 649,66 рублей [9, c. 2].
Однако предпринятые меры не приводили к снижению количества правонарушений в данной сфере. Согласно ежемесячной ведомости о работе Енисейской губернской милиции за март 1924 г., приготовление, сбыт и хранение спиртных напитков и наркотиков занимали второе место по количеству зарегистрированных преступлений за месяц (824 дела), уступая лишь нарушениям правил, изданных местными органами власти (занятие торговлей, промыслом, публичного порядка и т.д., 855 дел). Следом шли имущественные преступления (разбои, грабежи, конокрадство, мошенничество, поджог и т.п., 518 дел) и преступления против личности (убийства, побои, клевета и т.п., 336 дел) [10, c. 74].
Согласно протоколу губернского совещания по борьбе с преступностью, проходившего в ноябре 1924 г., за первые десять месяцев в рамках борьбы с самогонокурением сотрудниками милиции губернии было суммарно произведено 6307 обысков и возбуждено 6392 дела, т.е. почти в два раза больше, чем в 1923 г. Количество конфискованных самогонных аппаратов составило 2314 штук, а объем изъятого самогона – 4317 ведер [11, c. 35–37].
Увеличению количественных показателей в немалой степени способствовало совершенствование милицейской тактики по обнаружению мест изготовления самогона и его изготовителей. На смену единичным мерам, практиковавшимся в 1920– 1921-х гг., пришли повальные обыски и облавы, проводимые в рамках месячников и двухнедельников по борьбе с тайным винокурением. Особый эффект давали массовые обыски и облавы, проводившиеся накануне различных праздников. Например, только в первый двухнедельник 1923 г. в Красноярском уезде было конфисковано 36 аппаратов, а 39 чел. привлечено к ответственности; в Ачинском уезде конфисковано 135 аппаратов и привлечено к ответственности 310 человек [12, c. 3].
Важным направлением деятельности советской милиции в 1920-е гг. являлось противодействие проституции. По социальному составу женщины, занятые в этой сфере, имели крестьянское происхождение. Согласно исследованию Г.Х. Валиева, выходцами из крестьян были 41,9 % женщин, из среды рабочих и мещан – 29,6 %, социальное происхождение остальных 28,5 % осталось неустановленным. При этом более 70 % приходилось на возраст от 15 до 25 лет [13, c. 95]. В своем докладе губернскому совещанию по борьбе с преступностью в ноябре 1924 г. заведующий губернского отдела здравоохранения Ширшов рапортовал, что в Красноярске проституция развита в основном среди 17–25-летних, случаев детской проституции зарегистрировано два за год [11, c. 35–37].
Главными очагами проституции являлись гостиницы, постоялые дворы и съемные квартиры. Преобладающим типом стал коллективный промысел – работа проституток на артельных началах, совместная аренда квартиры, превращаемой в притон. По данным милиции на середину 1923 г., в Красноярске было выявлено около 30 притонов, 200–300 профессиональных проституток. В Ачинске и Минусинске, по неполным данным, насчитывалось по 20 профессионалок. За 4-й квартал 1924 г. в Красноярске было выявлено 43 проститутки и обнаружено 2 притона [14, c. 22].
Следует заметить, что вплоть до середины 1920-х гг. сведения о проституции как в Енисейской губернии, так и в Сибири в целом носят эпизодический характер. Эта ситуация объясняется особенностями политики советской власти относительно проституции в первые годы после Гражданской войны. Уголовное законодательство было ориентировано на борьбу с пособниками проституции, а не с проститутками и их клиентами, в отношении которых практически не велось никакого учета и не предпринималось никаких действий.
Масштабная кампания против проституции началась в 1922 г. В первый Уголовный кодекс РСФСР были включены две статьи, устанавливающие ответственность за действия в сфере сексуальных услуг: статья 170 наказывала за принуждение к занятию проституцией, а статья 171 карала за сводничество и содержание притонов разврата.
В декабре 1922 г. Сибревком выпустил Положение о борьбе с проституцией в Сибири, в соответствии с которым в начале 1923 г. в Енисейской губернии при губздравотделе был создан губернский совет по борьбе с проституцией. Позднее в Минусинске, Ачинске и Канске организованы самостоятельные комиссии по борьбе с проституцией [15, c. 4]. Примечательно, что в Канске во главе нового органа стоял начальник уездной милиции, а в губсовете представителем правоохранительных органов был начальник губернского административного подотдела милиции. Совет собирался ежемесячно, в круг его задач входили: мониторинг ситуации с проституцией на местах, организация профилактических мер по борьбе с женской безработицей, а также принятие решения о наказании в соответствии с законодательством [16, c. 90].
Сотрудники милиции не имели права применять никаких мер к проституткам, все данные о них передавались в губсовет по борьбе с проституцией или его местные органы по принадлежности [17, c. 74]. Губсовет, в свою очередь, постановил, что дома разврата и обнаруженные в нем лица должны подвергаться лечебному освидетельствованию, но только в том случае, когда имелись основания подозревать их в возможности распространения венерических заболеваний.
В целом, ввиду отсутствия конкретных директив, предполагающих решительную борьбу с проституцией, работа милиции в Енисейской губернии в первой половине 1920-х гг. свелась к борьбе с ее пособниками в рамках уголовного кодекса и ма ло способствовала искоренению этого социального явления. Более того, отмечалось, что привлечение к ответственности притоносодержателей и сутенеров повлекло развитие скрытых форм проституции, например на съемных квартирах [11, c. 15–16].
Важным направлением деятельности советской милиции в регионе стала борьба с детской беспризорностью. Беспризорность являлась благоприятной почвой для развития детской преступности, проституции и пьянства, способствовала возникновению и распространению венерических заболеваний. Вопрос с количеством беспризорных детей в Сибири в 1920-е гг. остался открытым; по мнению различных исследователей, цифра колебалась от 20 до 40 тыс. человек [11, c. 104]. Данные по Енисейский губернии также неоднозначны: в феврале 1921 г. Енисейская губернская чрезвычайная комиссия по улучшению быта детей отчитывалась о 4111 беспризорниках, однако в мартовском докладе их количество уменьшилось до 3070 [18, c. 100– 104, 122].
Лучше всего вопрос с учетом обстоял в губернской столице. Согласно данным, на начало 1921 г. в городе и пригородах в специальных учреждениях размещались 849 чел. [18, c. 94–96] На апрель 1923 г. количество воспитанников в домах и интернатах возросло до 1470. К началу 1925 г. численность беспризорников снизилась до 1335 чел., а к концу и вовсе упала до 968. По социальному составу беспризорных, как и до революции, преобладали дети рабочих – 54 %, крестьянские дети составляли 30 %, дети служащих – 8,3 %, прочие, те, кто затруднился ответить на вопрос о происхождении, – 7,7 % [18, c. 149–152].
Главным органом, занимающимся беспризорниками, являлась комиссия по делам несовершеннолетних при Енисейском губернском отделе народного образования. К 1924 г. она занималась рядом функций: рассмотрение дел несовершеннолетних и принятие решения о мере наказания, инспектирование мест размещения беспризорников (детдомов, интернатов, приемных семей), контроль за работой интерната для морально-дефективных детей. На каждом заседании комиссии рассматривалось в среднем по 15–20 дел, поступавших преимущественно из уголовного розыска или милиции, которые в основном и занимались поимкой юных правонарушителей. По результатам заседаний в отношении несовершеннолетних могли быть приняты решения, к числу которых относились: внушение или выговор; оставление на свободе под присмотром родителей, родственников, патронов; помещение в один из детских домов, интернат или трудовую колонию; определение на ту или иную работу; передача несовершеннолетнего вместе с делом в Народный суд.
Как правило, вопрос о том, кому надлежит заниматься конкретным правонарушителем, решался путем определения по внешнему виду возраста последнего. Если преступник признавался несовершеннолетним, то он переходил в ведение комиссии по делам несовершеннолетних.
Согласно отчету комиссии в июне 1924 г., на меры непосредственно педагогического воздействия (внушение, передача родителям) приходилось в среднем 25 % дел. Следует также обратить внимание на тот факт, что если в 1921 г. большая часть дел приводила либо к принятию незначительных мер, либо вовсе прекращалась, то в последующие годы такой исход наблюдался только у трети дел. До народных судов Енисейской губернии в 1921–1923 гг. доходило от 14 до 30 % дел, связанных с правонарушениями беспризорников.
Правонарушения беспризорников, переданные в народный суд комиссией по делам несовершеннолетних [19, c. 17].
|
CD S S a м S cd a и Я ° cd й 5 О Я щ Я a * & |
1920 г. |
1921 г. |
1922 г. |
1923 г. |
||||||||
|
CD П О CD О И |
О S о 5 В и 3 О я в Я S CD S Г7[ В В |
CD П О CD О И |
р S О 5 я и CD Я S CD S Г7[ И И |
CD П О CD О И |
р S о 5 я и 3 О я и CD Я S CD S Г7[ И И |
os |
CD П О CD О И |
Р S о 5 я и CD Я S CD S Г7[ И И |
S Я VO У os |
|||
|
cd « |
Ю О' 01 |
232 |
78,6 (79) |
00 up |
314 |
68,6 (68) |
297 |
70,1 (70) |
S' |
140 |
71,1 (70) |
|
|
- d) Os и ИЙ CD В $ =5 ’« О а О P s s X В |
11 |
3,7 |
22 |
4,8 |
29 |
6,8 (6,5) |
4 |
2 |
||||
|
2 |
0,7 (1,7) |
6 |
1,3 |
9 |
2,1 |
2 |
1 |
|||||
|
и « s s С « |
7 |
2,4 (2,3) |
13 |
2,8 (3) |
11 |
2,6 |
13 |
6,6 (6,5) |
||||
|
я о я £ ^° X! |
6 |
2 (2,2) |
14 |
3,1 |
14 |
3,3 (3,4) |
3 |
1,5 (1,4) |
||||
|
CD Я Я О С |
37 |
12,6 (13,5) |
89 |
19,4 (19,8) |
64 |
15,1 (18,4) |
35 |
17,8 (18) |
||||
Примечание . В скобках приведены цифры, указанные в источнике.
Как следует из таблицы, процентное соотношение видов преступлений, совершаемых малолетними беспризорниками, из года в год оставалось приблизительно на одном и том же уровне. Резко из общего количества выбивались кражи, стабильно составляя более двух третей дел. Нужно сказать, что в исследуемый период политика власти по отношению к несовершеннолетним нарушителям была довольно лояльной. Для детей, совершивших правонарушение до 14 лет, должны были применяться меры медицинского и педагогического воздействия, вплоть до помещения в специальные детские учреждения. К подросткам, не достигшим 18 лет, а с 1922 г. 16 лет, меры судебного воздействия применялись только в том случае, если более мягкие способы воздействия признавались неэффективными. Этим объясняется значи- тельное уменьшение общего количества дел, заведенных на несовершеннолетних в 1923 г.
Около 90 % преступлений совершались беспризорниками в городе, в уездах было зарегистрировано порядка 10 %. Пик поступления дел обычно приходился на май–август, поскольку во время холодного сезона беспризорники старались устроиться к кому-нибудь в услужение или в детдома. Преступления совершались преимущественно мальчиками, как правило, несколькими по сговору. В 1922 г. из общего количества поступивших дел на девочек приходилось 16,2 %, из которых коллективных только 0,2 %. Случаи рецидива среди девочек были редким явлением, только 3 за 1923 г., в то время как среди мальчиков за тот же период было зарегистрировано 33 случая. Нередко среди мальчиков встречались такие, кто имел уже несколько уголовных дел и не раз скрывался от правоохранителей. Попадались и совсем исключительные случаи, когда на одного ребенка заводилось до 10 дел [11, c. 5–6].
Среди преступлений преобладали кражи, причем процент преступников мальчиков и девочек был здесь приблизительно равным. Среди тяжких преступлений отмечались случаи убийства и нанесения смертельных побоев сверстникам за предательство или выдачу товарищеской тайны. К числу прочих относились дела, связанные в том числе и с самогоноварением. Как видно, в противодействии детской беспризорности милиция играла важную роль, заключавшуюся в розыске и первичной сортировке бездомных несовершеннолетних, проведении оперативно-розыскных мероприятий в случае совершения ими преступлений.
Таким образом, процесс организационного становления советской милиции в Енисейской губернии приходился на начало 1920-х гг. и проходил в сложных криминогенных условиях, связанных с «отголосками» Гражданской войны. Приоритетной задачей являлась борьба с политическим и уголовным бандитизмом. В условиях разразившегося в стране голода немаловажную роль играло противодействию самогоноварению. По отношению к бандитизму и самогоноварению власть требовала срочных и беспощадных действий, в то время как для борьбы с проституцией и беспризорностью требовалась деликатность, и жесткие меры применялись только в крайних случаях. Характерно также и то, что весь спектр задач советская милиция решала в условиях ограниченности ресурсов, острой нехватки квалифицированных кадров, сокращения штатов и финансирования.
Список литературы Советская милиция Енисейской губернии в 1920–1925-х гг.
- Бугаев Д.А. На службе милицейской. 1917–1925 гг. Красноярск, 1993. Кн.1. Ч. 2. 336 c.
- Николаев П.Ф. Советская милиция Сибири (1917–1922). Омск, 1967. 290 c.
- ГАКК (Государственный архив Красноярского края). Ф. Р. 53. Оп. 1. Д. 167.
- Бойко Ю.Н., Коновалова О.В. Вопросы кадровой политики в правоохранитель-ных органах (на примере советской милиции Приенисейского края в первой половине 1920-х гг.) // Антинаркотическая безопасность. 2014. Вып. 1(2). С.113–120.
- ГАКК. Ф. Р. 741. Оп. 1. Д. 35.
- ГАКК. Ф. Р. 49. Оп. 2. Д. 143.
- Шекшеев А.П. Самогоноварение, потребление алкоголя и борьба с ним в Ени-сейской деревне (1917–1930 гг.) // Известия лаборатории древних технологий. Иркутск, 2016. Вып. 4(21). С. 82–97.
- Исаев В.И., Угроватов А.П. Милиция Сибири в 1920-е гг. Новосибирск, 2008. 229 c.
- ГАКК Ф. Р. 874. Оп.1 Д. 60.
- Там же. Д. 10.
- Там же. Д. 51.
- Как идет борьба с пьянством // Красноярский рабочий. 1923. № 25. С. 3.
- Валиев Г.Х. Социальные аномалии в повседневной жизнедеятельности населе-ния Сибири в 1920-е гг.: историко-криминологический анализ. Нижнекамск, 2008. 163 c.
- ГАКК. Ф. Р. 874. Оп. 1. Д. 101.
- Хроника Красноярска // Красноярский рабочий. 1923. № 123. С. 4.
- ГАКК. Ф. Р. 874. Оп. 1. Д. 90.
- ГАКК. Ф. Р. 741. Оп. 1. Д. 127.
- «Охматмлад» и «Дети республики»: идеология и практика социальной полити-ки в Енисейской губернии в 1920-е гг. // Хрестоматия для студентов вузов. Красноярск: СФУ, 2015. 202 c.
- ГАКК. Ф. Р. 49. Оп. 1. Д. 480.